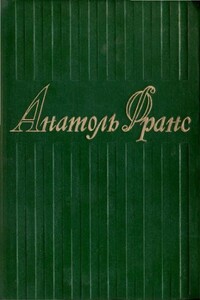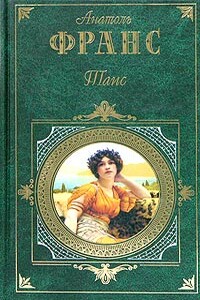Воодушевленные победой, товарищи из предместий вперемешку с бесчисленными уличными газетчиками всю ночь ходили по бульварам, триумфально неся на руках Манифлору, а по пути разбивая окна кофеен и уличные фонари, с криками: «Долой Крюшо! Да здравствует социальная республика!» Антипиротисты, в свою очередь, опрокидывали газетные киоски и тумбы с театральными афишами.
Подобным зрелищем не мог бы восторгаться холодный разум, и оно способно было огорчить эдилов >{276}, озабоченных соблюдением общественного порядка на дорогах и улицах… Но еще с большей грустью честные люди смотрели на лицемеров, которые, опасаясь неприятностей, держались на равном расстоянии от обоих станов и, при явном своем эгоизме и трусости, еще хотели, чтобы все восхищались их высокими чувствами и душевным благородством; они натирали себе глаза луком, плаксиво кривили рот, сморкались на контрабасных нотах и каким-то утробным голосом стенали: «О пингвины, прекратите братоубийственные битвы, перестаньте терзать материнскую грудь, вскормившую вас!..» — как будто человеческое общество может существовать без споров и ссор и как будто гражданские распри не являются необходимым условием национальной жизни и прогресса общественной нравственности; они, эти лицемерные ничтожества, уговаривали правых и неправых пойти между собой на компромисс и оскорбляли таким образом правых в их правоте, а неправых — в их отваге. Один из таких людишек, богатый и влиятельный Машимель, великолепный экземпляр труса, вознесся над городом каким-то колоссом скорби; пролитые им слезы образовали у ног его целые пруды, где уже завелись рыбы и плавали рыбачьи лодки, то и дело опрокидываемые его вздохами.
В эти бурные ночи, сидя под ясным небом на верхушке своей старой водокачки и регистрируя на фотографических пластинках падающие звезды, Бидо-Кокий гордился собою в сердце своем. Он сражался за справедливость; он любил и был любим возвышенной любовью. Оскорбления и клевета возносили его выше облаков. Карикатуры на него, вместе с карикатурами на Коломбана, Керданика и полковника Астена, можно было видеть во всех газетных киосках; антипиротисты распространяли слух, будто он получил пятьдесят тысяч франков от крупных еврейских финансистов. Репортеры милитаристских листков запрашивали мнения о его научной компетентности у представителей официальной науки, которые отказывали ему в каких-либо астрономических познаниях, оспаривали самые основательные его наблюдения, отрицали самые убедительные открытия, отвергали самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он ликовал, подвергаясь этим лестным нападкам врагов и завистников.
Созерцая внизу, у ног своих, огромное черное пространство, усеянное множеством огней, он не думал обо всем том, чем полна ночь в большом городе,— о тяжелом сне, свалившем усталых людей, о жестокой бессоннице, о лживых грезах, о всегда чем-нибудь отравленных наслаждениях и о бесконечно разнообразных страданиях. Он возвращался мыслью только к одному: «Вот в этом громадном городе правда сражается с неправдой».
И, подменяя сложную и низменную действительность простой и возвышенной поэзией, образно представлял себе дело Пиро как битву ангелов с демонами. Он верил в вечное торжество сынов света и радовался, что сам он, чадо ясного дня, повергал наземь исчадия ночи.
Прежде ослепленные страхом, легкомысленные и недогадливые теперь, республиканцы, встретившись лицом к лицу с бандами капуцина Дуйяра и сторонниками принца Крюшо, почувствовали, что у них открылись глаза, и поняли наконец истинную суть дела Пиро. Депутаты, которые два года, заслышав рев толпы «патриотов», бледнели от испуга, не стали, правда, храбрее, но трусили уже по-иному — и принялись обвинять правительство Робена Медоточивого во всех тех беспорядках, каким сами потакали, глядя на них сквозь пальцы и даже иной раз трусливо поздравляя их виновников; они укоряли Робена Медоточивого в том, что он навлек опасность на республику своими нерешительными действиями, в которых они сами были повинны, и снисходительностью, которой сами требовали; некоторые из них начинали уже подумывать, не выгоднее ли поверить в невиновность Пиро, чем в его преступность, и с тех пор стали испытывать жестокую печаль при мысли о том, что, быть может, этот несчастный осужден несправедливо и, высоко подвешенный в своей клетке, искупает чужое преступление. «Я из-за этого по ночам не сплю»,— говорил депутатам, представлявшим большинство, каждому по секрету, министр Гийомет, рассчитывая занять место своего начальника.