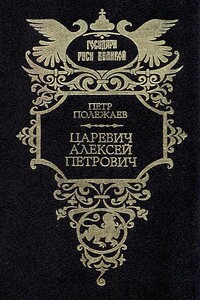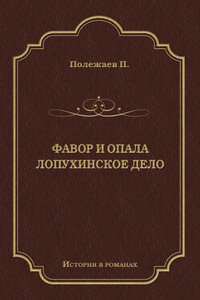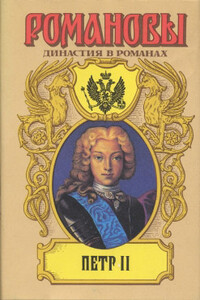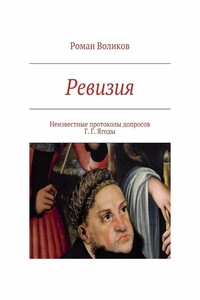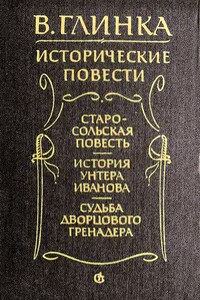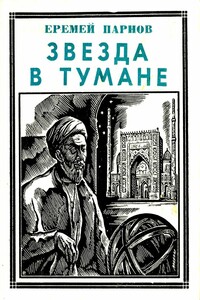И окольничий своим степенным шагом пошел отыскивать Бориса Алексеевича Голицына.
Между тем царь входил к своим. Он казался очень взволнованным, и это тотчас угадали обе женщины. Они угадали бы сердцем, если бы даже взгляды их общего любимца и не метали искр, но ни та, ни другая не показали вида, будто не заметили.
– Ну что потешные? – первая заговорила мать.
– Мои потешные молодцы. Посмотрела бы ты, матушка, на них. Не то что стрельцы. Да куда стрельцам до них! Они по выправке далеко выше и солдат иноземного строя. А каково стреляют в цель! Знаешь, матушка, нашего конюха Сережку Бухвостова[15], на что был увалень, а посмотри теперь, каким молодцом вышколился. Да как палит: из пяти выстрелов четыре раза в цель. Да мало ль таких… я не говорю уж об Якишке Воронине иль Гришке Лукине… эти почти с измалолетства у меня в строю… попривыкли… Если Бог будет милостив, так я из своих потешных понаделаю целый строй.
По мере того как говорил царь, неудовольствие исчезало и радость быстро разливалась по оживленным чертам.
– Да, спасибо Бутурлину, спасибо. Я чаял, что без меня в этот месяц они изнеряшились, а вышло, он и вправду принялся за дело.
– Ты будешь еще принимать в потешные?
– Всеконечно.
– Ну а как же стрельцы-то?
– Будут сокращаться, будут отправлять службу по украйнам. Найдется и им дело. Да какие они солдаты – лавошники гулящие.
– Боюсь я, Петруша, твоих затей. Будь осторожен. Стрельцы – народ буйный, пьяный, своевольный. Проведает твои мысли та, так подговорит их, и подымет она опять смуту. Ты был ребенок, может, не помнишь, как погибли родимые…
– Нет, матушка, помню… все помню, как будто вчера на глазах, – отвечал царь, и все лицо его побледнело и задрожало, как в ту ужасную минуту, когда стоял он подле матери и брата на Красном крыльце перед разъяренными толпами стрельцов, нервно передернулись губы недоброй улыбкой, а в глазах засверкало не гневное, нет, а злобное чувство.
– Теперь времена не прежние, – продолжал он, несколько успокаиваясь. – Не бойся, матушка.
Но материнское сердце сумело скрыть в самом себе всю накипевшую, острым ножом режущую боль, только руки усиленнее принялись за вышивание да голова пониже опустилась к работе. Зачем пугать, может быть, напрасно дорогого сына и больную невестку?
– Да, я было и забыла тебе сказать – был здесь окольничий Нарбеков. Видел ты его?
– Видел. – И царь рассказал о предложении Софьи Алексеевны и своем отказе.
– Петруша, Петруша, напрасно ты так сделал, – говорила умоляющим голосом мать. – Ты знаешь, как близок князь Василий к той… Теперь она озлобится и заведет большую… чует мое сердце.
– Ты забываешь, матушка, мне теперь не десять лет и мы теперь не беззащитны, как тогда. Поверь, она сама остережется. Я совершеннолетний и не уступлю своих прав. А на каком основании она самовластвует?.. Да что с тобой, Дуняша? – Петр заметил бледность жены.
– Ничего… так… пройдет…
– Да она больна, матушка! Пошли за доктором Захаром[16].
– Нет, Петруша, не тревожься, от этой болезни не излечит Захар, а пройдет она сама собой через несколько месяцев, – успокаивала мать, улыбаясь.
– Да чем, чем больна-то она? – нетерпеливо продолжал допрашивать Петр.
– Ну пущай она тебе сама скажет.
Царь подошел к жене, горячо обнял ее и наклонил к ней голову. Авдотья Федоровна, покраснев, шепнула ему на ухо.
Лицо Петра просветлело. Еще крепче он обнял, еще любовнее он поцеловал ее. Новость, сказанная на ухо, отозвалась прямо в сердце. Семнадцатилетний юноша должен был через несколько месяцев войти в новую роль – отца.
Но натура Петра не увлекалась чувствами, не могла ни минуты оставаться без деятельности. Он стал собираться.
– Куда ты? – с мольбой шептала жена.
– Пойду проведать нашего полковника – шибко заболел, сказывал Иван Иваныч.
Долгим взглядом проводила жена мужа, и засветилось в этом взгляде новое, непривычное чувство оскорбленной женщины и будущей матери. Не того ждало ее любящее сердце…