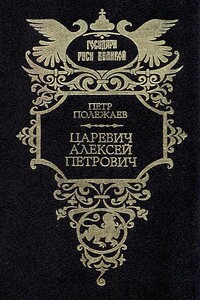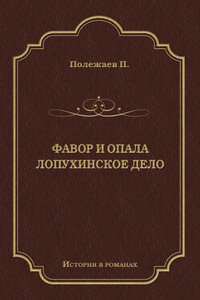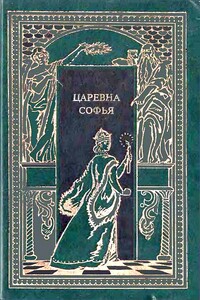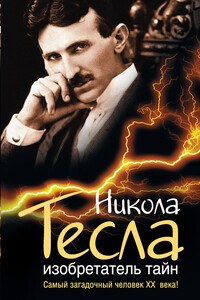– Не так близко, боярин, не ближе Мезени. Да пока жив братец и я подле него, Артамону не бывать здесь на очах у царя.
В голосе царевны слышался тон твердой решимости, обдуманной и холодной.
– Думаю я, царевна, не о себе. Правда, Артамон мой ворог кровный, он меня ссылал и от царского двора, да у нас свои счеты и мы сведем их со временем. А теперь заботит меня твое царское положение и всех сторонников наших. Была наша семья в чести и в славе и в царском жалованьи при покойном твоем родителе царе Алексее Михайловиче, а потом что вышло? Кто из нас был сослан, а кто хоть и уцелел, так все-таки должен был уступить место новым пришлецам, подручникам какой-то бабы бездомной, голи перекатной. Пошли новые порядки, старых слуг оттиснули, явились выскочки из борку да из-под сосенки и забрали все в руки, а мы, царские ближние, должны были спину гнуть перед какими-нибудь Нарышкиными. Ведь больно, царевна… Посмотри на свое положение. Теперь ты в чести, братец царь Федор Алексеевич слушается тебя, ты всем заправляешь, как и прилично по высокому разуму твоему, а отдай братец Богу душу свою, что из тебя сделают вороги нашего дома… ототрут, как последнюю челядь, а не то так и совсем запрут в монастырь. Не из какой-нибудь лихой корысти говорю я тебе так, царевна, а из нелицемерной преданности твоим и нашим интересам.
Странно подействовала речь боярина на молодую женщину. Не бросилась ей краска в лицо, не живее потекла по жилам горячая кровь, не заколыхалась грудь, не дрогнула она ни одним нервом, а только как будто брови немножко посодвинулись, складочки вертикальные обозначились на лбу, да лицо стало побледнее и холоднее.
Несколько минут продолжалось молчание, как обыкновенно случается после живо затронутых жизненных, основных вопросов, решение которых скрывается в далеком неизвестном будущем.
– Ну, сколько страхов наговорил ты, Иван Михайлович, хорошо, что я не робкая. Грозен сон, да милостив Бог! Вот и братец, может, встанет, женится, будут дети, сын… наследник.
– Хорошо, кабы так, царевна, ну а если…
– Ну тогда… тогда… да кто знает, что будет? Одно только могу сказать, что не уступлю мачехе, не дам ей властвовать и мудровать, как бывало при покойном батюшке. И у меня есть люди преданные и сильные.
– Немного их, царевна, да и те верны только до времени, до черного часу. Все они будут на стороне предержащей власти, а власть заломают в свои руки нарышкинцы.
– Никогда, боярин, сын у мачехи ребенок, а мой брат Иван старший царевич. Если он болезнен, слеповат и скудоумен, так ведь болезнен и Федор, а царствует же с моими советами. Точно так же будет править и Иван под моим руководством. Не читал ты, боярин, об императрице Пульхерии?
Боярин молчал, но, казалось, остался доволен ответом; даже насмешливая улыбка пробежала тайком под рукой, гладившей усы и бороду.
– Да полно говорить об этом, Иван Михайлович, – продолжала царевна, – скажи-ка лучше, что слышно в городе?
– Все по-прежнему. Посадские в тревоге: стрельцы волнуются. Слышал я, государыня, будто мутится Грибоедовский полк и будто его поддерживают и другие полки, собираются кругами…
– Спасибо, боярин, что напомнил. Я посоветуюсь с Васильем Васильевичем.
– Что тебе, государыня, дался все Василий Васильич да Василий Васильич. Не больно ты ему доверяйся: скрытная он душа… Нет в нем нашей старинной боярской чести. Уж что он за родовитый человек, когда у него пошевелился язык советовать батюшке государю уничтожить нашу службу боярскую, пожечь разрядные книги.
– О князе прошу тебя, боярин, вперед никогда со мной не говорить. Не понимаешь ты его, да и мало кто его понимает.
– Как не понять! Человек, который отрекается от своего отца и матери, от дедов и прадедов…
– Нет, боярин, неправда, – с непривычной живостью перебила его Софья Алексеевна, – не отрекается он ни от отца, ни от матери, ни от предков своих, а смотрит он пошире, чем мы с тобой, видит подальше и понимает, что есть многое подороже своей корысти и чести предков.
– Однако прощай, царевна; прости, если я сказал тебе что не в угоду. Поверь – по преданности.