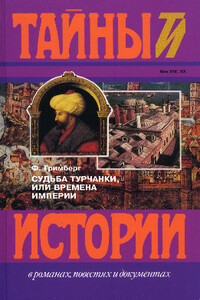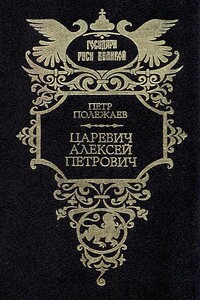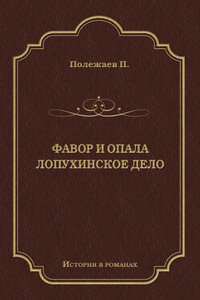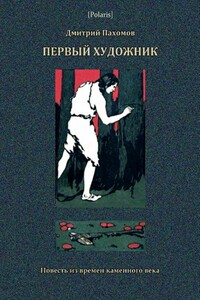Царевна с вниманием читала бумагу, написанную красивым почерком докладчика, плод его дьячего красноречия. В этой бумаге заключалась сказка, или воззвание, от имени царевны ко всем чинам Московского государства. После витиеватого предисловия о государствовании царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, о событиях воцарения Ивана и Петра, о восприятии правления благоверной царевной Софьей Алексеевной по слезному челобитью всего российского народа — после всего этого пространного вступления правительница жаловалась народу на Нарышкиных: будто они ругаются государскому имени, вовсе не ходят к руке ее, царевны, и царя Ивана, завели особых потешных конюхов, от которых многим людям чинятся обиды и утеснения, о чем она, царевна, неоднократно жаловалась царю Петру, и что, наконец, они, Нарышкины, даже забросали дровами комнаты царя Ивана Алексеевича и вконец поломали царский венец.
Прочитав грамоту, правительница, видимо, осталась ею довольна и даже милостиво протянула к докладчику руку. Такой милости в последние дни редко удостаивался бывший дьяк. Вообще отношения их после праздника Преображения заметно приняли другой характер. Кроме того что наклонности и взгляды худородного, перелившего в новую форму прежнюю закваску, не могли не возбудить презрения в царственной молодой женщине, последние серьезные события, с вопросами о жизни и смерти, не могли не оторвать ее от чувственной стороны…
— Грамоту эту разошли, Федор Леонтьич, — проговорила благосклонно царевна. — Да изготовлен ли указ в окрестные города и уезды о том, чтоб по-прежнему все денежные и хлебные сборы доставляли б сюда, в Москву, а не смели б слушаться наказов Петра и не везли бы ничего к Троице.
— Указ готов, государыня, и разошлется немедля.
— Хорошо. Теперь больше заниматься не буду.
По окончании занятий в последнее время Софья Алексеевна тотчас же отпускала докладчика, вообще она старалась не длить своих аудиенций с ним. Но Федор Леонтьич теперь не уходил, нерешительно переминаясь.
— Ты еще хочешь о чем-нибудь доложить?
— Стрельцы чинят большое воровство, государыня. Твоих наказов не слушают, к Троице перебегают, всех твоих сподручников ловят и переводят туда…
— Ты лжешь, Федор Леонтьич, клевещешь на моих верных и старых слуг… Кого они схватили?
— Да вчера схватили Кузьму Чермного… Андрея Сергеева и…
— Чермного… схватили… — машинально повторила царевна упавшим голосом, как будто дело касалось до лиц, ей совсем незнакомых.
— Схватили и увезли, государыня. Увезли и Петрова.
— И Петрова… — повторила она тем же голосом.
— И Петрова, государыня.
Софья Алексеевна как будто застыла.
— Стрижев и Кондратьев, на днях бежавшие было с отцом Сильвестром, — начал снова, после небольшого молчания, передавать новости Федор Леонтьич, — вчера воротились сюда во дворец к тебе, государыня, молили Евдокимова спрятать их здесь. Евдокимов спрашивал меня… я не велел…
— Ты не велел?.. Понятно… а я велю…
— Помилуй, государыня, теперь каждому из нас только до себя…
— Тебе… да… но не мне… Я, если не в силах защитить, так хоть укрою… укрою… — повторяла она почти бессознательно, потирая рукой лоб, как будто сбирая разбродившиеся мысли. — Прикажи псаломщику Муромцеву запереть их в церкви Распятия Господня… или нет… постой… церковь обшарят… лучше в тайник спрятать… как было тогда… только не им теперь… а мне… В какой тайник спрятать?.. Я подумаю… а теперь пусть Евдокимов отведет их в мою мыльную… там надежно… искать не будут…
— Слушаю, государыня, да вот уж и об себе хотел доложить…
— О себе? Что… тоже прятаться?
— Моей головы, государыня, пуще всего домогаются. Мне и укрыться трудно — везде найдут. Велел было я моему подьячему, двоюродному братцу Семену Надеину, спросить в подмосковной деревне у доброхота моего Перфилья Лямина, не можно ли в лесу у него поставить келью, где бы я укрылся. Перфилий говорит; лесу-де много и прожить можно. Так я и велел у дворцовой лестницы держать наготове лошадь, а у Девичьего коляску.
— И хорошо… беги!
— Бежать-то опасно, государыня. По всему Кремлю бродят стрельцы. Пожалуй, чего доброго, признают…