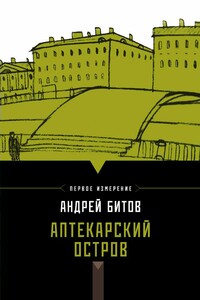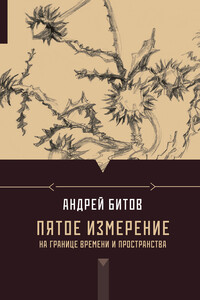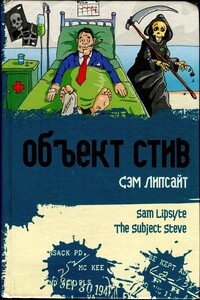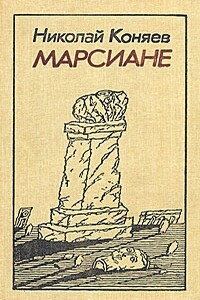Вернувшись, он, не раздеваясь, плюхнулся за клавесин и стал писать, не успевая подыгрывать себе левой рукой, но и правая еле удерживала перо.
Но чернила кончились. Он силился позвать, чтоб принесли… и медленно сползал со стула на пол.
И правда, сколь ни гениальна месса Моцарта, она единственная во всем его творчестве носит отчетливый отпечаток влияния, и это влияние Баха.
Два солнца вместе не восходят над горизонтом нашей планеты!
О, если бы он знал об этом раньше! То его бы такого и не было.
Зато у нас теперь оба: и Бах, и Моцарт.
Мы молчали, выжидая, кто первый.
– Вот вы в своей гипотезе утверждаете, что Моцарт ничего не ведал о старом Бахе… А как же его «Хорошо темперированный клавир»?! Ведь именно после него Моцарт обретает совсем новое развитие, вплоть до собственной великой мессы?
(Я и не знал, что она так хорошо разбирается в музыке.)
Виоло выглядел убитым.
– И правда, есть такое сочинение… как же я не учел! Это рушит сюжет.
– Ладно, – махнул рукой Уандей, – такой роман не под силу и доктору Манну. Фаустус нашелся…
И мы решили все-таки одобрить ненаписание им именно этого романа, за что и приняли Виоло в действительные члены Клуба.
Только в том случае, постановили мы, если главным героем станет посредственный Сальери, а гениальный Моцарт станет второстепенным. Дольше всего мы, как всегда, обсуждали название. «Человек, который не слышал Баха» не прошел по целому ряду причин. Во-первых, длинновато и уже опровергнуто Гердой, во-вторых, из-за Честертона[45]. В-третьих (все аплодировали этому неожиданно тонкому замечанию Барли), в названии слишком раскрывается содержание произведения. Другое название, которое Виоло тут же предложил, – «Зрячее ухо» – было решительно отклонено Гердой, и я снова поверил в ее ко мне чувства: она хорошо знала, как долго и упорно я не пишу свой роман «Говорящее ухо». В конце концов было принято решение, чтобы Виоло продолжил работу над названием.
Он выглядел окрыленным нашим решением, и мы были довольны.
Но ликовал он не по тому поводу.
– Вы сами не представляете, – с горящими глазами, возбужденно обращался он к Герде, – как вы гениально выправили мой убогий замысел! Очень уж Баха забивали его дети, и Моцарт с ними, как внебрачный сынок. Но он первый из всех услышал подлинного Баха еще в темперированном клавире – и пошел дальше, как бы самого себя то нагоняя, то перегоняя… Какой садовник привил его к этому могучему стволу, всем казалось, уже мертвого дерева! Именно в мессе они полностью и независимо слились, и, как бы ни казалось трагично для Моцарта услышать впервые «Страсти», он слышал уже свою музыку, и ничью другую: он слился с нею, совпал, так и не испытав влияния своего предшественника, потому что Учитель у обоих оказался один и тот же.
– Смотрите, – отреагировал Уандей, – он уже скрестил оба своих романа! А как же Россини? Может, тот бросил музыку, впервые услышав Моцарта?..
– Совсем бы было замечательно, кабы так… – вздохнул Виоло. – Тогда бы я объединил их воедино под названием «Три мессы»!
Итак, Уандей, Барли, Эрнест, Виоло, Герда, Мурито. Секстет…
Хватит! Вдруг что-то кончилось. Что-то произошло.
Мурито получил внезапное известие с родины и должен был срочно нас покинуть, ненадолго.
Нам стало неинтересно говорить без протокола… Так мы объяснили себе исчезновение Виоло, хотя он объяснял это иначе: возвращением к своему проекту маленького отеля.
Он обещал вернуться сразу, как подыщет подходящее помещение.
Вдруг и у Герды нашлась убедительная причина нас покинуть: что-то в Польше.
Мы остались трое в одной лодке, под портретом Стерна, снова с теми же именами: Уильям, Джон и Эрнест. Нам стало грустно. И мы почувствовали, как же нам стало хорошо!
– А не дописать ли нам хоть что-нибудь? – изрек Уильям, и мы расхохотались.
Наверное, я единственный воспринял его шутку всерьез: я не понимал, с чего это я вдруг заторопился… Но у меня вдруг стало получаться.
Я думал расправиться с этим редакторишкой из «Британники» как с ничтожеством, вымещающим свои личные неудачи на репутациях великих людей, а получалось нечто совсем другое: справедливый и честный властитель, отягощенный властью, вершащий конечное меросердие (хорошая описка!) по отношению к замученным своими усилиями хоть что-то произвести в нашем мире творцам – борец с забвением, рыцарь бессмертия… Я вдруг