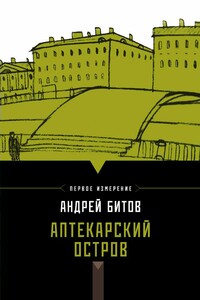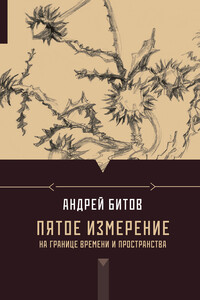Преподаватель симметрии - страница 51
Дальше становилось уже головокружительно непонятно: время уподоблялось некой мембране, вроде барабанной перепонки, впускающей в себя звук, но не воспроизводящей его.
Еще интересней было предположение, что время является не сплошным, а дискретным, что оно рвется, как бы вспыхивает, как гирлянда невидимых глазу микровзрывов, что вообще все это сплошная катастрофа, данная нам в ощущении, но не уловленная сознанием.
Прилагалось и математическое обоснование с постоянными ссылками на какого-то Форхеда[30], где Тишкин пытался вывести формулу трещины (Трещина Тишкина) как часть общей теории дурноты, ибо попытка работать со временем, как и с бесконечностью, ничего, кроме тошноты, не вызывает.
Ну как я мог все это представить в хоть какое Британское общество! Однако я показал математическую часть работы одному своему знакомому по Клубу математику…
Сначала он расхохотался, потом насупился, потом хмыкнул, поочередно одобрительно и неодобрительно, потом снова просмотрел, уже не выражая эмоций.
– Откуда у вас эта абракадабра? Из России… тогда понятно. Хотя, с другой стороны, у них сейчас здоровая математическая школа. А то, что вы мне продемонстрировали, престранная каша. – Он так и сказал porridge, и я тут же вспомнил Антона. – С одной стороны, все это знает уже каждый школьник, с другой – преоригинальнейшие к этим трюизмам подходы… Знаете, что мне все это напоминает? – обрадовался он. – Наивную живопись! Я большой поклонник Руссо… Руссо не из России? Конечно же, нет. Он же француз!.. Во Франции тоже была неплохая математика… К науке, однако, все это, – он небрежно шлепнул рукописью о столик, – не имеет ни малейшего отношения. Лишь в последней части… Как он назвал свою теорию?
Я перевел как мог.
– What does it meen “durnota”? Ax, nausea… похоже. А когда он это написал? В тысяча девятьсот пятом году?? Не может быть! Вы еще спрашиваете почему? Потому что в тысяча девятьсот пятом году Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности.
Не могу вам этого объяснить, но я искренне огорчился.
– Porridge… – пробормотал я. – Суп из топора… – вспомнил я другое любимое присловье Антона.
– What does it meen topora? – спросил математик.
– Topor, – как-то неприлично жестко, по-русски, сказал я, – это то, чем нашему Карлу отрубили голову. В семнадцатом еще веке.
Ах да, Тишкин… все время о нем забываю. В том же самом последнем письме Антона, из которого я и высасываю весь этот рассказ, было и еще про Тишкина, самое последнее…
Советская власть арестовала у Тишкина его ракету, а его самого куда-то увезли под конвоем, еще дальше, чем Тобольск. Антону (Тошке) стало совсем грустно и пусто; тогда-то он и подался в родные Батьки вступать в колхоз…
Вспоминая сейчас Антона, я понимаю, что, как это ни странно, он очень любил свою родину. Англия ему, конечно, нравилась, но любил он в ней по-настоящему только пабы и Роберта Скотта (Роберта Фолконетовича, как он его называл, утверждая, что он совсем как русский. Почему? Потому хотя бы, что опоздал и погиб.) «Скотты, – говаривал он, – они другие, они вроде как и мы, хоть мы и не рыжие. Вы того, мудрецы, не понимаете, что всякий народ не только у себя в стране, но и в своем времени жить хочет. В своей эпохе. Вот и дерутся: не сильный со слабым, не отсталый с передовым, не старое с новым, не белый с рыжим, не католик с протестантом… а век – с веком! Все одновременно. Время воюет со временем на наших глазах, живое – с мертвым, прихватывая нас, как прах, за собою… Тишкин, тот вообще утверждал, что время – это одно мгновение, мгновение взрыва, растянутое, замедленное в миллиарды миллионов тысяч сотен раз! А Россия для такой функции времени – мировой полигон.