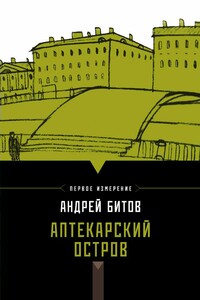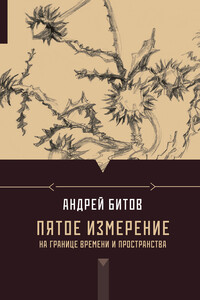– Они просто не понимают, что значит летать, – жаловался Гумми. – Птицы, конечно, тоже летают. Но люди же не птицы. Люди летают иначе. Они не приспособлены, как птицы. Люди не знают, как они приспособлены, и думают, что летают только птицы. Конечно, нельзя представить, что человек летает, как птица. Вот они надо мной и смеются. А я не машу руками, как крыльями, когда летаю. Это же не так делается…
«Однако этот идиот удивительно тонок! – подумал Давин. – Нет эквивалента… как всегда, нет эквивалента!.. Что чему равно? Где ум, где бред? Одна лишь договоренность, циничность которой опущена по еще одной договоренности, которая в свою очередь забыта. О господи! – вдруг взорвался про себя Давин. – Додумаю ли я сегодня до конца хоть одну мысль!..»
– Это так же просто, как любая способность, если она есть. И так же недоступно, если ее нет. Это обыкновенная способность, как все другие. Чуять запахи разве менее удивительно? Есть ли что-либо не удивительное и не чудесное у Бога?
«Господи! – взмолился Давин. – Он не может так говорить! Это он сейчас сказал или я подумал? Нет, положительно сумасшествие заразно…»
– Ну так покажите, – сказал он, не смягчив тона.
– Вы мне не верите… – Горе, мигом распространившееся, залившее лицо Гумми, было так глубоко, что доктор задохнулся и чуть не взвыл от отчаяния. Нет, это было выше его сил.
– Ну как же не верю! – впервые окончательно сорвался он. – Я именно – верю вам! – Он кричал, разделяя с людьми заблуждение, равное их хитрости, а именно что грубость есть проявление искренности. – Я верю вам!
– Понимаю, – сокрушенно и покорно кивнул Гумми. – Мне-то вы верите, вы в меня – не верите…
– Слушайте, Гумми! Вы поразительный человек! Нет, я вам совершенно серьезно говорю, я не смеюсь, вы потрясающий человек! Вы сами не понимаете, какой вы… – Чем больше он нанизывал и уточнял интонацию, тем более смущался: сколько же надо употребить слов, чтобы заставить человека поверить в то, во что сам не веришь… Собственно, слова только тут и требуются. Остальное – существует. «Необходимо и достаточно, – со вздохом подумал он. – Лучше бы я стал математиком, чем уточнял неточные мысли о жизни…» – Уверяю вас!..
Но Гумми поверил и, казалось, замурлыкал от счастья.
– Я вам верю, – сказал Гумми.
– Вы научились летать в монастыре? – снова вглубь догадался Давин.
Это резкое возвращение вспять возымело неожиданное действие: казалось, Гумми что-то вспомнил – так он разглядывал округлившимся и остановившимся взором перед собой нечто, чего перед ним на самом деле не было.
– Да… Учитель… Он пил воду… Я должен был постигать пустое… – Снова слова, только что поразительно находившие друг друга, слиплись, как леденцы в кармане. – Выпил воду, посадил в угол… Немножко бил палкой… – В глазах Гумми что-то прорвалось и выскочило наружу. – Он меня спросил: «Где в этой чашке выпитая мною вода?» Я сказал, что в нем. Тогда он меня очень бил. Потом поставил пустую чашку передо мной и сказал: думай о том, что в ней… И ушел, заперев дверь. Я был там три дня и думал.
– Хм… – сказал доктор Давин.
Лицо Гумми прояснилось.
– Вы мне подсказали, и я вспомнил. Так и было. Я смотрел в чашку три дня.
– Это по меньшей мере странно, – вздохнул Давин.
– Я вам сейчас попробую объяснить. Кажется, тогда мне и удалось в первый раз… Я окоченел. Потом вдруг согрелся, и все стало цветным. Я оказался в том же, однако, помещении. Мне стало очень любопытно, страшно и весело. Именно весело, но я не смеялся. Озираюсь, и оцепенение во мне греется и звенит, как цикада. Все – то и не то. Вдруг вижу: чашка в другом углу стоит. Я даже не поверил. Наверное, не заметил, что отошел от нее в другой угол. Вернулся к ней – нельзя было ослушаться учителя. Стал около нее на колени. И опять чувствую – что-то не то. Единственное узенькое окошко было прямо надо мною, в углу, где меня оставил учитель, а теперь, когда я перешел, оно опять оказалось надо мною, точно такое же. Я оглянулся на тот угол, из которого только что перебрался к чашке, и закричал – так мне стало страшно: там по-прежнему, в той же позе, стоял я на коленях. Понемногу я оправился и рискнул снова взглянуть на него. Он был в точности я, и мой испуг удивительно быстро таял – я все больше смотрел на него во все глаза и чувствовал, как он просыпается. Не знаю, как я понял, что он знает о моем существовании и дает мне привыкнуть к себе. Он старательно не смотрел в мою сторону. Я помню, что он не смотрел нарочно. Не знаю, как он дал мне это понять. Наконец он ко мне обернулся, посмотрел на меня насмешливо и подмигнул. И это вдруг оказался не он, а я, когда, подмигнув, поднялся с колен и какой-то миг постоял над бывшим, опустевшим мною. Затем я как-то длинно изогнулся вбок и оторвался от пола и так недолго парил над тем, оставшимся в углу, собою, робко и все с меньшим, казалось, интересом следившим за мною. Он мне стал скучен, как будто я понял, что с ним все правильно, все в порядке. И, повисев над ним секунду, изогнувшись, я легко взмыл к потолку, и всего меня охватила такая радость! Я знал, что мне все распахнуто, и заточение в тяжелом и твердом мире для меня окончено. Наспех опробовав свои возможности, покружив, переворачиваясь, по комнате и, как-то мгновенно, поняв все приемы и обучившись им, я взмыл в окошко. Помню, оно было пыльным.