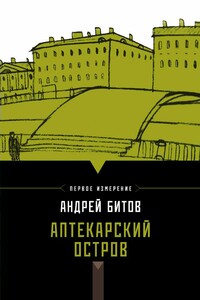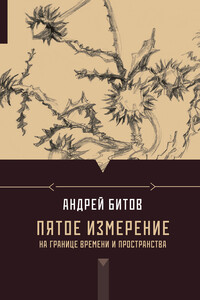2-014
Прохладная капля упала ему на щеку. Он проснулся на полу. На рясе отца. Кругом была ночь. И рядом Она дышала.
И кто-то ходил по комнате, неслышно их, его и Ночь, перешагивая.
Маленький оплывший огарок в руке. Капюшон, ряса из плащевой военной ткани, препоясанная вервием, босой, кривые огромные ногти… ищет сандалии!
Копыта старика. Оброс бородою, ищет ножницы… обстричь ногти!
Ослепительная догадка: его похоронили заживо.
Плащ обсыхает, и с него то и дело обсыпается тонкий песочек.
Роется в своем поганом сундуке, как в могиле. Раскручивает и закручивает бритву «Жиллетт», раскрывает и захлопывает дневник; после недолгих колебаний прихватывает моток бечевки и перочинный ножик, старую газету… ах, вот зачем!
Отец заворачивает Коня.
Бибо перестает прикидываться спящим, перелезает через Бьянку-Марию и отбирает пакет. Отец неохотно, но и без особого сопротивления уступает, зато не выпускает его руку, тянет за собой.
Лицо его молодо и приветливо: просто он знает дорогу. Бибо колеблется – отец тянет его настойчивей: знает, куда и зачем. Бибо не хочет…
Лицо отца суровеет и стареет. Он жестко вцепился в руку сына.
Отец тянет его под письменный стол: там, между тумбами, стена, зашитая серыми досками. Такие выцветшие на солнце и дожде досточки… вот никогда не предполагал, что там вроде дверца в чуланчик на чердаке… даже калитка… в щели небо видать… Нет, не страшно, но как-то еще не готов.
Грозное лицо отца. Бибо решительно не хочет следовать за ним.
И по мере того, как свирепеет отец, он начинает уменьшаться, скукоживаться, таять, а рука его – растягиваться. И вот он уже весь под столом.
Бибо окончательно понимает, что это не его отец. Что это другая сила…
Он осеняет себя крестом, чуть ли не впервые в жизни. То есть не в церкви.
Отец превратился в крутящийся волчок под столом, не то в бомбу, не то в гранату, и, пошипев, но так и не взорвавшись, пропал.
2-015
Это смотря с какой стороны посмотреть… Ночь уступала Бьянке-Марии свою власть: по мере. По мере того, как рассвет протирал окошко, Бьянка-Мария оставалась в ночи, становилась ее сгустком. Она свернулась клубочком в утреннем свете, закутавшись в остатки ночи. Бибо с неприязнью рассматривал белизну собственных руки и ноги: будто они всплыли в ночи, будто труп.
«Наверно, первые люди… наверно, Адам и Ева… наверно, они были черными! Им не надо было одежды поэтому… потому что они были одеты! Одежда Творца – ночь, потому что Он – свет. Это потом, это потом Змей побелил их: “Смотрите, вы же внутри, под кожей, белые!” – раздел, и им стало стыдно. Про ребро… про ребро что-то наплел переплетчик… переводчик… переписчик… не так было дело! Конечно же, первой была Ева, и она была черной! Гладкой, как пупс. Ничего лишнего. Адам – потом. Это Еву вывернули наизнанку. Оставили кусок пуповины… привесок… и подвесили-то кое-как!..»
Бибо отшвырнул отцовский дневник, с неприязнью осматривая свой сжавшийся перетрудившийся отросток, переводил с нежностью взгляд на совершенный комочек тьмы, на остаток прекрасной ночи, которая уже была, одна, единственная, первая, которая больше никогда – никогда! – не повторится… Бьянка-Мария разгорячилась в сладком досыпании, заголилась: пятки, ладошки, подмышки, губы, те и эти, – все это белее розового, розовее белого – ничто в мире не могло быть настолько обнажено! настолько быть!.. Всплыла ослепительная полоска зубов – то ли смерть, то ли улыбка счастья: она вся еще была вчера!
Зря недооценивал себя Бибо… Ничтожество его превысило всякое воображение и чем-то напоминало негра. Оно вошло в рассветное утро родной ночи, погрузилось во вчера, потому что взамен первой и последней ночи послал нам Господь первое и неразменное утро.
Когда вбираешь голоса, И птица трудится с рассветом, И проступает, как роса, Сквозь пот труда любовь поэта, Ты не торопишься… и время, Как конь разнузданный, ступает, Копыта черные в траве, Бразды и стремя промокают В забытой на ночь борозде. И птица трудится в гнезде…
2-016
– Ты прямо куэнтеро… – вздохнула Бьянка-Мария. Ей понравились его стихи.
– Что такое куэнтеро?
– Сказочник. Сказитель. Душа народа.