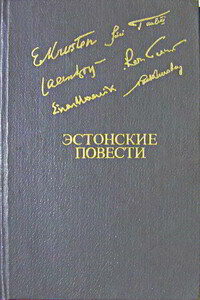– Семьсот пятнадцатый, – он узнал голос майора Громова, – работу закончил!
– На точку, семьсот пятнадцатый! – приказал Командир.
– Восемьсот пятый зону занял!
– Работа, восемьсот пятый!
– Четыреста седьмой – курс триста тридцать два.
– Четыреста седьмой, займите эшелон восемь. Курс – двести девяносто четыре!
– Понял, эшелон восемь, курс двести девяносто четыре.
– Пятьсот девятый, – резко сказал Командир, – долго вы будете молчать?
– Я – пятьсот девятый. Беру КУР ноль.
– Будьте внимательны, пятьсот девятый!
– Понял, прошел дальний!
Неожиданно тонким дискантом зазвонил один из многочисленных телефонов. Дежурный офицер связи снял трубку.
– Да… Да… Нет… Не могу. – Он посмотрел на командира. – Если срочно – найдите замполита, решите вопрос с ним. Нет, с Руководителем полетов я вас соединять не буду – идет работа!
Командир даже не взглянул в сторону связиста, не поинтересовался, кто звонит, какой вопрос необходимо срочно решить, – Командир руководил полетами. Только ему одному было дано право поднимать в небо реактивные стрелы, изменять их курс, разрешать или запрещать посадку. Он отвечал за каждый самолет, за каждого летчика, за каждое мгновение той напряженной работы, что, не прекращаясь, шла в огромном воздушном пространстве. Он отвечал за все. Глядя на усталую спину, Саня вдруг с ужасом и каким-то затаенным страхом понял, что Командир не имеет права ошибаться. Не дано Руководителю полетов такого права. В любой, самой сложной и невероятной ситуации он должен принять единственно правильное решение. Холодно и бесстрастно просчитать, проанализировать в считанные секунды обстановку и немедленно выдать результат. Ошибись РП – и его будут судить. Самым суровым судом – такая огромная ответственность лежала на плечах человека за пультом. Несравненно большая ответственность, чем на любом из летчиков и на всех, вместе взятых. Эта ответственность не позволяла ему вставать из кресла, не позволяла поворачивать головы: на Командире, на нем одном, замыкалась вся жизнь огромного реактивного цеха. Когда Саня это понял, все встало на свои места. И пепельницы, и проветривание помещения для свежести, и мясо, которое надо нарезать маленькими дольками, потому что человек за пультом не имеет права отвлекаться; и мокрое пятно на рубашке, выступившее от гигантского нервного напряжения.
– Товарищ Командир, – сказал Саня. – Я принесу вам холодной воды.
И осторожно, ступая на цыпочках, метнулся в бытовую комнату к холодильнику. Командир не повернул головы, ничего не ответил. Он глядел в бескрайнее осеннее небо, в просветы облаков, из которых молниями появлялись самолеты. Он предупреждал летчиков о встречном ветре, о падении атмосферного давления, уводил машины на новые высоты, давал советы, изменял скорости. Но теперь Саня смотрел на него другими глазами. Эталон справедливости, непревзойденный ас воздушного боя, наставник и покровитель молодых летчиков – все, чем был для него Командир прежде, воскресло, ожило, осветилось неподдельным восхищением и уважением. Саня был готов выполнить любой приказ этого бесстрастного человека, пойти за ним в огонь и в воду, отдать, если потребуется, жизнь. Бесшумной юлой кружился он по залу СКП, благодаря судьбу за три внеочередных дежурства, за три прекрасных дежурства, позволивших ему понять что-то очень важное, значительное, нужное.
– Восемьсот пятый, – сказал Командир. – Посадка!
Последний самолет коснулся бетонки, смена закончилась. Саня взял ракетницу, зарядил патроном с красной меткой, посмотрел на Командира. Тот кивнул, согнувшись, встал из-за пульта, присел несколько раз для разминки, смущенно улыбнулся: «Ноги совсем затекли». Саня выстрелил в открытую дверь балкона, глядя, как ракета с шипением врезается в опустевшее, безмолвное небо. Командир крякнул, взяв микрофон, уже не сурово, а как-то добродушно сказал:
– Замечаний по полетам нет. На отдых!
И, залпом осушив стакан воды, принесенный Саней, повернулся к начальнику штаба, колдующему над плановой таблицей.
– Ну что у тебя, Василий Степанович?
– Как всегда, – засопел начштаба. – Этого нет, того не хватает.