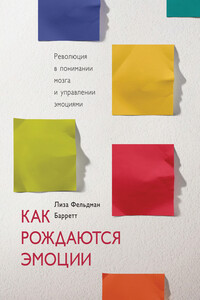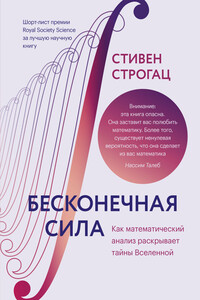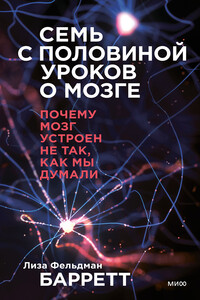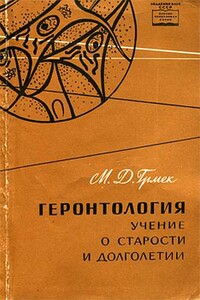Преломление. Наука видеть иначе - страница 35
Но это не имеет никакого значения.
Действия приобретают смысл только из тех значений, которые мы им даем… нашей реакцией (внутренней или внешней). Поэтому только реакция показывает наши перцептивные предположения, иными словами — идею мозга о том, что полезно в конкретной ситуации. Обратная связь, которую мозг посредством пяти органов чувств получает о поступке, только помогает судить о результатах… а именно: был полезным поступок, который он спровоцировал, или нет. Прыжок с одного здания на другое, безусловно, был таким. И тем не менее должно быть интересно, как мозг и тело смогли произвести такой полезный прыжок и помочь в первую очередь сбежать от погони. Все просто: он взял возбудители, существующие в конкретной ситуации, и соотнес их с таким же случаем, где мы сталкивались с аналогичными раздражителями. Или даже еще проще: используя наше прошлое, чтобы помочь в настоящем… но не путем познания, а с помощью инстинктивной реакции.
Поскольку информация, поступающая от пяти органов чувств, неоднозначна, процесс смыслообразования в мозге обязательно эмпирический. (Не забывайте, что важные действия прошлого происходят в трех временны́х рамках, которые мы обсуждали в предыдущей главе: эволюция, развитие и обучение.) И наш мозг смотрит только на эту историю — и только на нее, — надеясь увеличить вероятность выживания в будущем. Более того, почти в любом случае память о том, что уже случалось в похожих обстоятельствах, — лучший показатель того, что будет дальше. Именно поэтому восприятие любой конкретной ситуации — всегда только определение, насколько полезна наша реакция, и это превосходит значение объективной реальности. Если подумать… Кого волнует точность информации, когда на кону выживание?!
Вы рассмотрели хищное животное на картинке? Мы можем видеть 90 % информации. И животное там есть. Если вы все еще его не нашли, уже поздно — вы погибли. А теперь взгляните еще раз.
Толкование с точки зрения пользы означает, что мы выжили, и этот опыт запоминается как часть истории, которая в будущем даст информацию органам восприятия. Объективная реальность — не более чем случайное стечение обстоятельств.
Трудности в изучении иностранных языков — тоже пример того, как мозг постоянно ищет полезную информацию и как это проявляется в том, что мы слышим и говорим. У многих носителей английского языка есть сложности с произношением раскатистого испанского «р». Если оценивать в общем, то очень многие, кто хоть раз пытался учить иностранный язык, сталкивался со, скажем так, иностранными звуками. Известно, что японцы, говоря по-английски, часто говорят «херроу» вместо «хеллоу». Это происходит потому, что они буквально не слышат разницы между «р» и «л». Скорее всего, это связано с тем, что в их родной речи нет этой разницы. У японцев в прошлом не было ситуации, где разница между этими звуками зачем-то была бы нужна, поэтому точность восприятия (то есть способность отличать) не имеет значения. В результате их мозг натренировался не слышать разницы между этими звуками, потому что в этом нет никакого практического смысла.
МЫ НЕ ВИДИМ РЕАЛЬНОСТИ, МЫ ВИДИМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО БЫЛО ПОЛЕЗНО ВИДЕТЬ В ПРОШЛОМ.
Наше восприятие цвета тоже отражает зависимость мозга от полезности информации, а не от точности. Видимый свет физически существует непрерывно на протяжении всего спектра, но зрительная зона коры головного мозга организует его, разбивая на четыре зоны, образующие круг: красный, зеленый, голубой и желтый. Если добавить оранжевый, синий, фиолетовый, — мы получим спектр, отраженный в хорошо знакомой с детства фразе: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Поскольку человеческий мозг обрабатывает свет однозначно и показывает его в виде красного, зеленого, голубого или желтого, это означает, что мы способны различать другие цвета только как ограниченное количество сочетаний этих четырех (мы не видим красно-зеленый или желто-голубой). Наше восприятие как бы берет два удаленных друг от друга участка световой линии — с самой короткой длиной волны и с самой длинной — и пригибает друг к другу, пока они не соприкоснутся. В результате они, поставленные рядом в непрерывном цикле, становятся похожими в представлении нашего восприятия.