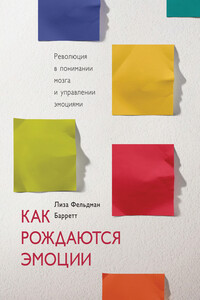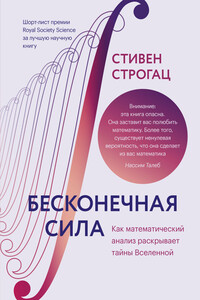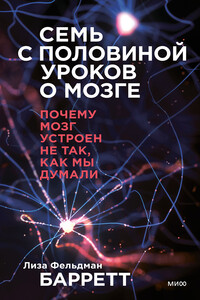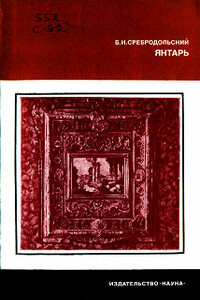Представьте: человек в баре улыбнулся вам, и вы расцениваете эту улыбку как флирт, отвечаете, а на самом деле у него не было намерения устанавливать с вами контакт. Или, например, вы обвиняете друзей или супруга в недостаточном внимании, а затем обнаруживаете — это объясняется тем, что они готовили вам сюрприз. Мы находимся в постоянных отношениях с другими людьми. Все время обрабатываем неоднозначную информацию, а затем мозг сужает вероятное количество реакций до одной. Часто ошибаемся в отношении кого-то, потому что неправильно проецируем на них значения (дальше я подробнее расскажу о «проекциях»). С точки зрения нашего мозга, близкие — не что иное, как источники очень запутанной, бессмысленной информации, получаемой органами чувств. А еще они — «объекты», к которым мы относимся с повышенным интересом, тянемся к ним и связываем себя с ними обязательствами. Но они же постоянно сбивают нас с толку.
Несмотря на наши усилия в общении, к людям, которых мы знаем, с которыми знакомимся или взаимодействуем, не прилагается подробная инструкция. Как бы это ни было полезно, другой человек — не фурнитура с инструкцией из IKEA. Напомню, что другой человек — всего лишь такой же предмет реального мира: то есть источник, по сути, бесполезной информации.
Мы реально генерируем собственные бессмысленные сигналы. Следовательно, заведомо знать «лучший» способ ответить другому человеку в каждой конкретной ситуации, а тем более себе, совершенно невозможно.
Итак, существует четыре непреодолимых барьера для восприятия мира таким, какой он есть. Увидеть реальность с математической точностью нельзя. Значит, нужно сесть, глубоко вдохнуть и посмотреть на себя и на человеческую жизнь иначе.
А теперь самое странное.
Мы не видим реальность такой, какая она есть, — но это и неплохо. Этот факт мы должны принять.
Наука пытается пробиться к источнику физических явлений и добраться до понимания, минуя информацию. Нейронаука сегодня пытается понять, как мозг проходит мимо информации… к значению, которое мы с Дейлом Первсом[24] ранее называли «эмпирическим значением» информации. Именно так и поступает мозг, и поэтому человек живет долго и счастливо. Нашему виду удается успешно существовать, не борясь с неспособностью видеть реальность, а благодаря ей. Мы видим интерпретацию прошлых отношений с окружающей средой, и это помогает мозгу реагировать верным поведением.
В конечном счете информация не имеет значения. Важно то, что мы делаем, поскольку в основе человеческого существования лежит вопрос: что теперь? Правильным (или, лучше сказать, наиболее точным) ответом будет — выживать. Как мы предполагали раньше, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать реальность. А мы не знаем. Как же тогда мы дотянули до XXI века? Как удалось построить города, сообщества и небоскребы? Как же мы создали столько значений из бессмысленного? Очень просто. В процессе эволюции, с помощью заложенного в нас механизма развития и обучения — метода проб и ошибок.
Это означает, что мы вступаем в контакт с окружающим миром… опытным путем.
Именно там мы строим (и меняем) структуру нашего мозга: посредством эксперимента… активно контактируя с источниками неопределенной информации. Об этом следующая глава.