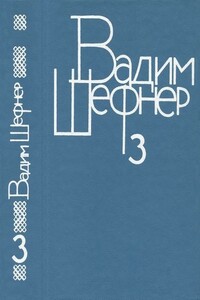Именно в это мгновение Элизабет Бош переступила порог трактира. Мужчины были настолько увлечены своей перебранкой, что ее не заметили.
Покидать заведение он не собирается, заявил Ален, мало того, он желает получить еще рюмку водки, а платить будет, когда сочтет нужным, он человек свободный и сумеет постоять за себя хоть в Риме, хоть еще где.
Элизабет Бош сидела на скамье перед открытым окном. Под перекрытиями веранды слепили свои гнезда ласточки. Птенцы неумело махали крылышками. Женщина неподвижно смотрела на улицу, теперь ей было стыдно, что она пришла, и стыдно за Якоба, который оказался пьяницей.
— Перестаньте драть глотки, — вдруг сказала она, — есть люди, которым по душе тишина.
Она и сама удивилась, услышав собственный голос. Вдобавок ей было неприятно, что оба крикуна, а заодно и молодые люди, убивающие время возле игральных автоматов, все на нее уставились. Она заказала сельтерской, и хозяин подал ее немедля, отчасти затем, чтобы доказать этому сварливому типу, что здесь свои порядки и обычаи.
В пивной разом все стихло. Слышно было, как щебечут ласточки и катятся шарики в игральных автоматах. Оттуда доносился детский смех. Ален буркнул, что хочет заплатить. Хозяин выписал ему счет, чего обычно никогда не делал, отодвинул от себя чаевые, которые хотел ему дать Ален, и, не промолвив больше ни единого слова, ушел к себе за стойку и начал перемывать стаканы.
Якоб Ален уже жалел о своей вспыльчивости.
— Вы неверно обо мне судите, — сказал он. Но его слова были адресованы не столько хозяину, сколько Элизабет Бош, впрочем, никто не обратил на него внимания Он почувствовал себя очень чужим и очень одиноким, хотел встать и уйти и остаться тоже хотел. Наконец он все-таки решил уйти, но задержался возле женщины и, сам не понимая, что с ним происходит, вдруг протянул руку и провел тяжелой пятерней по ее волосам. После чего покинул трактир.
Какое-то мгновение Элизабет Бош сидела неподвижно, потом вдруг вскочила и выбежала вслед за ним, даже не заплатив за сельтерскую. Ей было все равно, что подумает хозяин, что скажут люди в деревне. Она догнала Алена и пошла рядом с ним, а он шмыгнул носом и сказал:
— Я вовсе не пьяница.
Деревенская улица шла под гору, описывала крутую дугу и убегала между полями к заброшенной шахте, карьер которой заполнился водой. Вот к воде они и направились и сели на краю обрыва. В маленьком озерке отражалось заходящее солнце. Над водой гулко разносились голоса купальщиков.
— Смешно, — сказала женщина.
— Да, смешно, — подтвердил Якоб Ален.
Послышался голос кукушки, Элизабет начала считать, сколько она накукует.
— Чайки бывают и черные, и красные, и синие, а бывают большие, как канюк.
Она не поняла, к чему он это говорит.
— Море, верно, очень большое, — сказала она.
Он не ответил, а Элизабет подумала, что за всю свою жизнь так и не видела моря, да и вообще мало что видела: Богемские горы, Бранденбургские ворота, ну и еще Цвингер в Дрездене. Вот и все.
— Наверно, оно очень красивое. — сказала она.
Ален поднял руку, словно хотел показать, до чего море большое и до чего красивое.
Женщина подумала, что, должно быть, он ориентируется в морях-океанах не хуже, чем она в своей деревне или в окружном центре. Она не решилась спросить, где он побывал на своем веку. А то ей пришлось бы потом признаться, что она сама почти нигде не бывала. Мужчина тем временем думал, как было бы здорово постоять на палубе рядом с этой женщиной, просто стоять рядом и глядеть на воду и на белый песок какого-нибудь острова. Он даже улыбнулся своим мыслям, бросил в воду камешек и сказал:
— А я почти все в жизни прохлопал.
У Элизабет заныла спина. Она вдруг показалась себе толстой и неуклюжей и подумала, как было бы славно сбросить с плеч несколько годков, тогда бы уж она смогла просидеть на траве хоть до утра и ничего бы у нее не заболело.
— Пошли, — сказала она.
Встать с земли ей было трудно, и он потянул ее за руки. Поднялся ветер и погнал дымные тучи с электростанции прямо на деревню.
В воздухе запахло какой-то затхлой гнилью, и Ален ощутил легкую дурноту.
— Нет, я бы здесь не прижился, — сказал он.