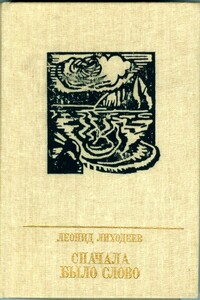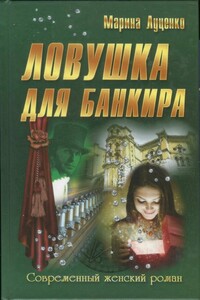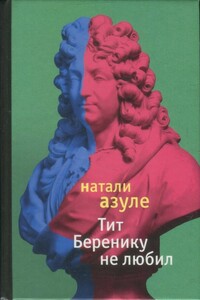Может, стать мне поэтом? У меня совсем недурной слог.
Главное, что на столе в моей комнатке на втором этаже нашего особняка лежал аттестат белоцерковской гимназии. Трудненько он мне достался! Когда Людвик уехал в Петербург, мне совсем осточертело в Белой Церкви, в этом жалком пансионе пани Рогальской, и я сдуру устроил демонстрацию. Стал отвечать уроки по-польски! Сделал вид, что забыл русский язык. «Господин Варыньский, прекратите издеваться!» — орал инспектор Токарский. «Пшепрашам пана», — отвечал я и продолжал дальше. Гимназисты корчились от хохота. Все поляки, все понимают… Короче, исключили на год. Другой бы легче отделался. Взять хотя бы Людвика. От него привыкли ждать выходок, это было как бы в порядке вещей. Но когда тихий позволит себе взбунтоваться — тут уж берегись! Ему закатают по первое число.
Целый учебный год я болтался без дела в Кривце; вернее, помогал немного отцу вести дела поместья, а пани Филипине — воспитывать младших сестер и Казика; ждал редких писем от Людвика. Отец за исключение не слишком пенял; похоже, был даже доволен в душе, что я наконец позволил себе самостоятельный поступок, хотя и глупый. Матушка так вовсе из меня героя сделала. Вспомнила даже, как она когда-то на приеме у киевского генерал-губернатора устроила нечто подобное — году этак в шестьдесят четвертом, когда повстанцы еще бродили по лесам на Украине и в Литве. Скандал был жуткий! Отцу это стойло карьеры, спасибо графу Браницкому, взявшему его управляющим.
И вот аттестат на столе. Не успел я насладиться свободой и помечтать о студенческой жизни в Петербурге, куда мы конечно же отправимся, как только у Людвика кончится срок административной высылки, как пришла сестра Хеленка, которую мы зовем на украинский манер — Галей. Она была в шляпке с плоскими полями, подвязанной розовой ленточкой, и в длинном платье с оборочками. Прелестное дитя, имеющее твердое намерение обратиться в девушку.
— Как вы накурили здесь, Стасю, — сморщила она миленькое личико.
Я поспешно выбросил папиросу в окно. Нигде нет покою! Пани Филипина воспитала младших сестер в почтении к нам с Людвиком. Они нас называют на «вы», как родителей.
— Чего тебе нужно? — не слишком вежливо спросил я.
— Отец просит вас пожаловать к нему в кабинет, — сделав книксен, ответила Галя без тени улыбки, а я чуть не расхохотался ее серьезности. По-моему, она обиделась.
Я скатился по перилам вниз. Упал, не доехав, больно ударил коленку. Почему я не такой ловкий, как Людвик? Но даже это не испортило мне настроения.
Отец встретил меня за конторкой, где просматривал какие-то счета. Был он в своем повседневном костюме, в котором обычно выезжал на дрожках в имение. Ликование мое поутихло. Боюсь я отца. Мне кажется, что он относится ко мне не так, как к Людвику. Братом он гордится, это ясно. Братом и я горжусь. Во мне же нет ничего такого: ростом не вышел, способностей особых не обнаруживаю, хил и тщедушен. Лицо до сих пор в прыщах, скорей бы они прошли, матерь божья! Во взгляде отца я всегда это вижу: и хилость свою, и прыщи.
— Станислав, я говорил с пани Бжезиньской. Как ты смотришь на то, чтобы продолжить образование в Вене с ее сыном Эдмундом? — сказал отец как-то буднично, на мгновенье отрываясь от бумаг.
Я растерянно уставился на него. Никак не думал, что отец способен решать мою судьбу вот так, походя! Он снова уткнулся в счета. Я видел лишь его круглую макушку с серебряным ежиком волос. Мне стало необыкновенно досадно.
— Я не слышу ответа, — сказал он, не поднимая головы.
— Как вам будет угодно, — еле слышно сказал я.
— Мямля! — отрезал отец, вскидывая на меня круглые стекла очков. — Почему ты не протестуешь? Почему так покорен? Зачем ты не просишься в Петербург?
— Я хотел бы в Петербург, — сказал я безнадежно.
— Ага! В Петербург! — радостно воскликнул он. — Чтобы потом тебя тоже привезли сюда жандармы, как твоего старшего брата?
— Зачем же так… — пожал я плечами.
— Затем, что москали потеряли голову, а вы туда же! — отец сел на своего любимого конька. — Затем, что нужно помнить о том, что вы — поляки, а отчизна — в рабстве!..