Не зная, что сказать ей, Николай пожал плечами и спас себя тем, что указал ей на входившую в этот момент в комнату беременную соседку, любопытствующую проведать, какие же это дамы появились у молодежи. Она вошла уже без стука, как без стука должны были наверняка — Николай хорошо представлял себе это — войти сюда скоро все остальные, кто только вообще сюда был вхож, и муж ее в коридоре, как это было видно через неприкрытую дверь, уже спешил сюда, докуривая, давясь, папиросу и алчно вглядываясь пока что, не различая против света, кто же там стоит у окна.
Оттого, что эти люди, самых имен которых он зачастую не помнил и которые никогда в его жизни не имели и вряд ли могли иметь какое-то значение, вдруг возомнят, видя его рядом с этой девушкой, что она — его, его избранница, Николаю стало еще хуже. Он повернулся спиною ко всем, изображая, будто занят происходящим на улице.
Снаружи как будто потеплело, воздух казался влажен, согреваемый тусклым декабрьским солнцем, стоявшим над брандмауэром дома напротив. Легкая дрожь этого сырого воздушного слоя, которую, мнилось, улавливал глаз, мельтешенье одетых в черное людей среди белых, лишь чуть потемневших сугробов вдоль мостовых, напоминали тот день, когда они с матерью попали в катастрофу. Он посмотрел вниз во двор, испещренный маленькими следами детей, на ветви деревьев с оставшимися кое-где, не облетевшими покореженными листьями и подумал о том, что совсем не знает природы, не умеет видеть ее и многое теряет, безвылазно торча здесь, в пожираемом страстями городе, где вся жизнь — как один день, и разность не только между хорошей и плохой погодой, но и меж временами года почти не важна. Он попытался вспомнить, какая была погода в эти дни в прошлом году, и не смог: вся прошлогодняя зима померещилась ему как один день, серой и насыщенной влагой. Еще он представил себе, как через несколько минут они все вместе пойдут сквозь этот осмос, плотный и словно бы даже неподатливый, который оставит изморось на их лицах, и сказал себе, что любит вот так, с своими приятелями бездумно и бесцельно брести по городу, туда, куда его ведут, брести со слабой, тлеющей надеждой…
Но едва он сказал себе так, как что-то тотчас же восстало в нем против. И он примерно представлял себе, что это такое и отчего. От того, что рядом с собою самим, бредущим по этому предпраздничному городу, он начертил себе две эти женские фигуры со всеми деталями их обличья. По мере того как входили они в эту комнату, как поворачивались, начиная болтать, как показывали себя, по мере того как неслышно наполнялась эта комната людьми, в нем самом, шаг за шагом, движенье за движеньем, параллельно всему этому, росло одно, столь знакомое чувство. Он заранее предвидел, чем все это кончится! И каждый шаг, каждый штрих подтверждали его предвиденье, стремительно таща к развязке… Это не было даже по-настоящему разочарованием, это чувство, первое дуновение которого он ощутил еще на улице, перед этим домом, даже еще не войдя сюда, и подступившее куда-то к горлу, когда он — в который раз! — увидел эти коридоры, затем эти комнаты, когда едва обдало его нищенским запахом этой изуродованной деревни, чудовищно перекомпонованной и втиснутой раз за разом в убогие ячейки прямоугольной трехмерной решетки, едва сопричастился он жизни ее обитателей. Нет, он еще именно что вчера или неделю назад, когда впервые зашла об этом речь, чутьем угадал, что «ничего не будет»; он забыл теперь даже, на каких данных основывалось его чутье, но сейчас это уже не имело значения, а существенно было лишь то, что, увидев воочию этих девушек, он должен был убедиться, что все это так и есть. Он испытывал уже не разочарование даже, а буквально какое-то отвращение и к самому себе, и ко всем без разбора, кто только находился здесь, тоску, сжавшую его сердце так, что лишь словно через пелену он мог наблюдать происходящее. Он не вникал уже в то, что они говорили, принуждая себя только улыбаться, если все смеялись, и поворачивать к говорившему будто чужую голову. Однажды он попробовал заговорить сам, но у него ничего не вышло. «Что это вы там бурчите?» — крикнула ему брюнетка, а та, что стояла все еще возле него, посмотрела опасливо. Ему, однако, было уже все равно. Он думал лишь о том, насколько ему знакомо все это. Та же глухая тоска, сколько раз она охватывала его и просто так в гостях у кого-то, не только под праздник, тоска, и более того — отчаяние, отчаяние ни с чем не соразмерное, проникнутое такой безнадежностью, будто ему на роду было написано остаться сидеть среди них вечно, вечно видеть те же лица, вечно слушать их шутки и препирательства и вечно делать вид, что и он с ними, что и он компанейский, хороший парень, что ему нужно все это, что здесь его место. Сейчас эта безысходность была вовсе глупа: ведь ни этот дом, ни эти девушки ничего не значили сами по себе, там, куда сейчас все они должны были отправиться, мог оказаться совсем другой дом, совсем не такая, не похожая на этих, хозяйка, там могли, в конце концов, быть и еще другие какие-то девушки, — но отчаяние, бушевавшее в нем, было сильнее посулов разума. «Ничего не будет, ничего не будет, — твердило оно, забивая все остальное, — все будет точно так же… Ничего случиться не может…» Вмиг ему сделалось себя жалко. Все прежние случаи, когда вот так же, в безумной надежде входил он в какой-нибудь дом и от порога, обозрев гостей, расположившихся у стола, убеждался, что ее нет, что нет вообще никого, к кому бы он мог почувствовать симпатию, а такое же подавленное бешенство разрывало его изнутри, припомнились ему. И вдруг, словно пелена, мешавшая ему видеть, расслоилась и образовала две завесы, наподобие театральных задников, и он поверх всего того, что было здесь, рядом, гораздо яснее мог видеть другие лица, в эту минуту помстившиеся ему бесконечно более дорогими: лица близкой родни его, деда, матери, бабки и теткиного мужа Василия. И хотя заранее было известно, что Новый год они будут встречать раздельно, и что никогда в полном составе вместе не встречали, они неожиданно все представились ему за одним столом; а он сам, он стоял на пороге, и, обернувшись к нему, они радовались тому, что он наконец с ними. У него даже возникла мысль, что собрать их в самом деле реально: стоит ему лишь сию же минуту загодя обзвонить их всех, и тогда, уступая прихоти любимого внука и племянника, они отменят своих гостей и поспешат к Стерховым или к тетке. Что он, тем не менее, никогда не сделает этого, было ясно ему сразу же, но все равно, и после того, как видение рассеялось и он опять очутился в телесном мире, у него осталось соображение о том, что все же приятнее будет провести праздник дома; тот же Василий, как ни хаяла его Катерина, был остроумен и за столом один способен был сделать Новый год веселым. А кроме того, подумалось ему, если к той же тетке приглашены еще какие-то гости, пусть взрослые, но, возможно, тоже интересные, то будет и совсем хорошо. Надо было лишь вызнать, кто приглашен к тетке, а кто к Стерховым…
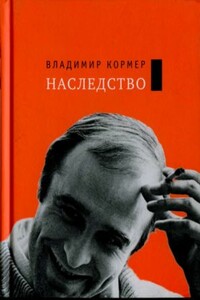

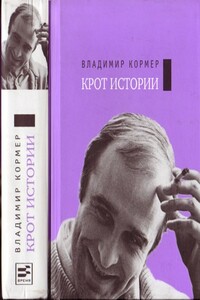
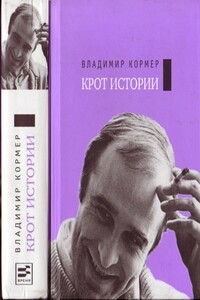


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
