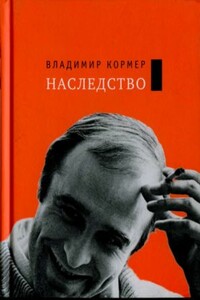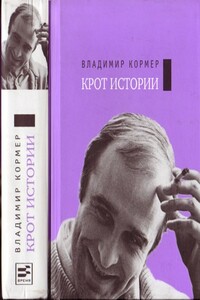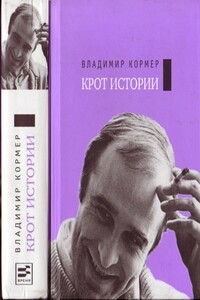— Подожди. Эй, кто там?!
— Да чего там «кто там»? — передразнила его снизу соседка, тетка Анастасия по голосу. — Привел жену, а нам не покажешь. На чердак повел.
Она была внизу не одна: рядом с нею Александр различил двух других соседок: Татьяну, квартирную парию, и Зинаиду Ивановну, пожилую бабу, знаменитую тем, что, прожив в Москве пятнадцать лет, она так и не выучилась ни читать, ни писать и без посторонней помощи не умела набрать номер телефона.
— Да-а, — пошутила Зинаида, — на чердаке тебе теперь что делать? Ты сам в своих комнатах себе хозяин. Это когда родители дома были, иное дело! — И, захохотав, она толкнула в бок Таньку.
Тетка Анастасия и Танька засмеялись.
— Ну, давай, показывай невесту-то. — Анастасия взяла у него из рук свечу и поднесла к самому невестиному лицу.
— Гляди не спали невесту, — сказала Танька.
— Какая ж она ему невеста, — заметила Зинаида. — Я-чай, расписались уже?
Александр, привыкнув побаиваться соседок и желая как-то скрасить сумрачный женин вид, сказал нарочито празднично:
— Расписались, расписались.
— Поздравляем, поздравляем вас. Живите хорошо, не ссорьтесь. Друг друга любите. Родителей уважайте, — хором заговорили бабы.
Потом наступила неловкая пауза. Стерхов знал, что должен был бы пригласить их выпить, две бутылки у него даже были припасены, не специально для них, но на всякий случай — жена, однако явственно и для бабок, потянула его за рукав. И снова он, хотя и был напуган и раздосадован ее поведением, понял вдруг, что это она права, а не он и что все эти тети Анастасии, Зинаиды Ивановны, Таньки, к которым он всегда, невзирая на то, в ссоре или в мире была с ними его мать, сам привык относиться снизу вверх; невзирая на то, что слышал, конечно, как отец в разговоре с матерью называет их полуграмотными, дикими бабками, сам привык выслушивать их сентенции — нынче все они стали даже не то чтобы ему ровней, но значительно как-то ниже его. Он внезапно только сейчас сообразил, что это так и есть на самом деле, что они, в сущности, простые, неграмотные бабы, тогда как он… И, стремительно взрослея, он стал думать о разнице их социальных положений, то находя ее меж собой и ими, то теряя вновь, когда его несчастный нищий отец или зачумленная от кухонного чада мать рисовались ему. Все люди, все вещи и все взаимодействия людей и вещей вдруг заплясали перед ним в разнообразных сочетаниях и стали иными. До сих пор все длилось детство. Сейчас оно вдруг кончилось, и другая жизнь, к которой он не был подготовлен ни школой, знать ничего не желавшей об этой другой жизни, ни родителями, надеявшимися, что она его минует, жизнь с мелочными расчетами авансов и получек, долгами, болезнями детей, соседскими и семейными ссорами, «неприятностями на работе» и прочими неприятностями, связанными с неопределенным социальным положением, вмиг открылась ему.
Меж тем бабы, так и не выпустив его молодую жену из рук, продолжали расспрашивать и разглядывать ее, и Зинаида, держа ее за плечо и тихонько поворачивая лицом к слабому колышущемуся свету, недоброжелательно говорила:
— Ну ты сме-е-лая, в такое время ребенка заводить. Я вот так вот в двадцать восьмом году с ребенком на руках в Москву заявилась! Боже ж ты мой, ни гвоздя, ни стекла! Сестра все писала: приезжайте, приезжайте. А что было приезжать-то?! Лучше бы весь век свой в деревне прожила.
— Ладно тебе, — оборвала ее Танька, — ты всех по себе меряешь. У тебя своя жизнь, у ней своя.
— Ты родителям письмо отослал? — поинтересовалась тетка Анастасия.
— Отослал. — Александр кивнул так же вяло, как минутами прежде кивала его жена. — И письмо, и фотокарточку.
— Отослать-то отослал, да неизвестно, как примут, — вмешалась Зинаида.
Жена опять потянула его за рукав, но в это время входная дверь отворилась, Стерхов уже догадался, кто это: во всей квартире оставалась еще только одна — фельдшерица Полина Андреевна, ближайшее Стерховым лицо в квартире, под надзор которой с отъездом они оставили ключи от комнат и кое-что из имущества, а заодно и сына. Александр, ставший за эти полчаса хитрым и умудренным жизнью, почтительно шагнул вперед к этой смешной, с тщательно уложенными седыми буклями (поговаривали, что у ней парик) старушке, никогда не имевшей никакого влияния ни в их квартире, ни, поэтому, на него самого: