Лишь иногда мужество покидало ее, и она понимала случившееся, как понимала бы его, скажем, ее прабабка, верившая не в теорию вероятностей, а в птиц-вещуний, то есть как дурное предзнаменование, как указанье, что ничего не выйдет у нее. И это было как раз в те минуты, когда она думала о сыне, который, живя отдельно весь этот год, все больше отдалялся от нее, все дальше уходил из-под ее контроля, так что она чувствовала уже, что меж ними стена и с своей системой разума она не может пробиться через нее.
Николая Владимировича также огорчало, что они не близки с внуком, но, упустив время, он теперь и не пытался это исправить, а только присматривался исподтишка к внуку при не столь уж частых их встречах, не вполне ясно представляя себе, что тот за человек и чего можно от него ждать. Очевидно было только, что Анна права и мальчик отвык от них немного и чувствует себя у них не вполне свободно.
В это утро его (мальчика) взвинченность, поспешные разговоры с матерью, которые он, явно и для него самого, вел по обязанности, с тем чтобы как можно скорей окончить и бежать по своим делам, заставили всех Стерховых особенно обратить внимание на него, прислушиваться к нему с особым пристрастием, может статься, и бессознательным, порожденным его же нервозностью.
Рассуждения о биологической наследственности применительно к человеческой душе обычно суть упрощение проблемы постижения ее живой целостности. Николай Владимирович знал это, но не мог удержаться порою, чтобы вслед за Анной, когда та бывала недовольна сыном, и за Катериной, всегда утверждавшей, что Николай — все же гораздо больше из той семьи, не из них, не найти в его характере, в поведении определяющих каких-то черт того семейства, Кнетъириных, и не ведал только: действительно ли эти черты унаследованы и, значит должны были все равно рано или поздно сказаться, или же просто переняты и развились в годы, что мальчик провел у тетки и бабки. Издревле известный антагонизм был очень силен меж их семьями, хотя и не совсем равномерен. Николая Владимировича у Кнетъири-ных уважали и даже любили; к Анне относились в общем неплохо, хотя и посмеивались над ее пылкостью и сентиментальностью (насмешки, которых она им простить не могла, однако, и через тридцать лет); Катерину же откровенно не любили, считая ее очень ограниченной и грубой, неведомо как выросшей у такого отца. Но, подумав о ней, вспоминали наконец-то и о Татьяне Михайловне и заключали, что «в общем-то ничего удивительного нет в Катерине, а Татьяна Михайловна хоть и, безусловно, несчастная женщина, но винить в этом некого…». В свою очередь, то семейство наделялось у Стерховых родовыми признаками эгоистического равнодушия, самоуверенности, происходящей от преувеличенного понимания о собственной личности, и отталкивающего стремления к благополучию, чего бы оно ни стоило. Все это заведомо было несколько нелогично, поскольку ни о каком особенном благополучии или, тем паче, преуспеянии того семейства говорить не приходилось: все оно давно было уже разорено войнами и жизнью, и если кто-либо из них когда-то и нанес Анне или Катерине в их юности обиду своими высокомерными насмешками, оскорбил их убежденность в абсолютном своем превосходстве над ними, то теперь давно был за это наказан, да так, что мера наказанья намного превысила вину. Возможно, что ввиду этой нелогичности, вслух, при ребенке, ни эти постыдные родовые свойства, ни их носители прямо, своими именами никогда не назывались. «У меня хватало такта, — заявляла Анна гордо, — не пытаться при нем опорочить ни нежно любимую им бабку, ни не менее чтимую тетку…» Не скрывалось от него — сознательно, из педагогических соображений, или потому, что скрыть уж было невозможно, — лишь общее неодобрение к той семье, а также некоторая жалость, что там его портят, тамошняя атмосфера, сохранившаяся неизменной несмотря ни на что, дурно влияет на него: он сделался нескромен, охладел к матери, стал с ней не так откровенен, как был прежде.
«…Я бы многое ему могла рассказать о них, я могла его настроить против них как угодно, — рассказывала Анна Катерине свой разговор с бабкой, состоявшийся вскоре после их переезда. — Николай был воск, и я, если б захотела, могла бы сделать так, что он и смотреть бы не стал в их сторону. Но я этого не сделала!.. Я так и сказала ей. И, представь себе, она меня поняла. Она это оценила и переменила свое поведение…»
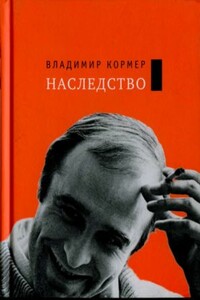

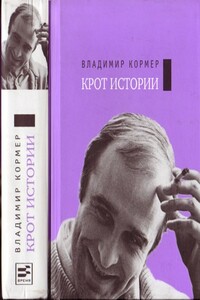
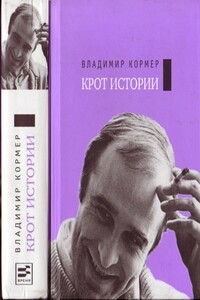



![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)