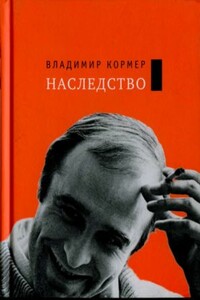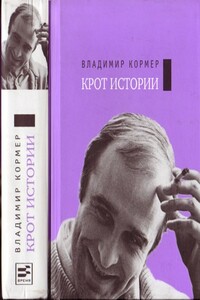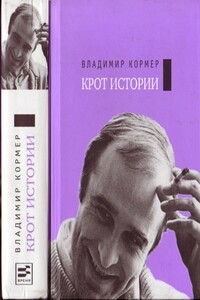Вообще они часто спорили и ссорились с братом в последние годы из-за Мишки. Но ссоры эти не были серьезны и, умирая, брат, будучи холост и сердечно привязан к их семье, оставил им в завещании десять тысяч рублей, неизвестно как им накопленных (почти ничего на себя не тратил, не пил, не курил) — целое состояние… Все семейство Николая Владимировича тогда и плакало, и радовалось, и поминало добрым словом дядю Сашу. Отложив толику денег ему на памятник, они и купили тогда ту злосчастную дачку.
Николаю Владимировичу нарисовался вечер того дня, когда закончились хлопоты с оформлением пая в кооперативе; им разрешили строиться, выделили место в ряду других сослуживцев Николая Владимировича, и даже обещали помочь с материалами. Тем вечером, словно в детстве, усевшись все вместе на старом их диване, они мечтали: какой у них будет сад, как они будут качаться в гамаке, разобьют клумбы, как их дети будут бегать по дорожкам. Пришла с кухни мать, ее обняли, втиснули меж ними, зацеловали: «Мамочка, как, милая, у нас все хорошо, правда?» Все шутили, что стали теперь собственниками, что Маркс прав: все зависит от экономики, что ныне каждый из них ощутил себя свободнее и новые горизонты раскрылись им. А Анна, вдруг затуманясь, говорила: «Боже мой, как унизительна бедность!» И на нее набрасывались: «Ну что ты? Нашла о чем вспомнить! Да если мы когда и жили плохо, то все равно этого почти не замечали, потому что всегда были вместе и поддерживали друг друга!.. Мы не такие, как этот подлец Мишка! Вот, небось, кусает теперь себе локти…» (Это уже кричала, конечно, младшая, Катерина.)
Вообразив себе неожиданно московское свое жилище и себя самого на диване под тогда же прикнопленной фотографией брата, а чуть левее, на полочке, в красном углу, вместо икон, стоял бюстик Пушкина, а справа от дивана — шкафчик с книгами, Николай Владимирович даже засмеялся от удовольствия вслух, потому что книги, или вообще литература, действительно были его страстью, и он даже удивился, как это он мог позабыть о них, задаваясь вопросом о положительном содержании своей жизни. Ему припомнились ссоры с Татьяной Михайловной, когда он растрачивал деньги на книги, припомнились кое-какие, иногда подлинно удачные находки, затем припомнились любимые стихи любимых его поэтов и, наконец, стихи свои собственные, ибо он всегда писал стихи и не прекращал их писать совершенно и по сию пору, хотя теперешние его стихи были, разумеется, уже не те — все больше шуточные, ко дням рождениий и другим торжественным случаям дома и на работе. Последнее соображение вновь огорчило его. Настроение его опять ухудшилось, и он подумал, что и сама страсть его к литературе становится весьма специфичной или, правильнее сказать, сомнительной: он все сильнее интересуется мемуаристикой, а собственно романическое волнует его мало и все меньше и меньше. Он в самом деле любил теперь не столько первые, сколько последние тома собраний сочинений, читал какие только попадались юбилейные сборники, знал генеалогические древа отечественных особенно писателей, обязательно любопытствовал, если встречалось ему в книге описание пейзажа: где это, уж не тверское ли имение Н-ых? С. мог жить там летом восемьсот пятьдесят третьего года; если дан был словесный портрет, то он интересовался всегда: реальное ли это лицо, и узнало ли оно себя в романе, и если да, то в каких отношениях остался с ним автор; любил он также вникать в чужие дневники и черновики: прочие обстоятельства, косвенно отразившиеся на процессе создания вещи, как то: семейное и материальное положение, здоровье, степень достигнутой к тому времени известности, — тоже не ускользали от него. Про себя он и раньше догадывался, что это увлечение его не совсем чистого свойства, что для него существен не один лишь исторический интерес, не столько валено проникнуть через мемуары в чужую эпоху, но преимущественно важно проникнуть в чужую жизнь и сравнить ее со своей собственной. Но и стыдясь своего анализа, он не мог решиться совсем запретить себе чтение такого рода, потому не мог, что всегда (и сейчас, в поезде, тоже) начинал оправдывать себя, и оправдывать удачно, что, мол, честолюбие его на литературу никогда не распространялось, никогда не претендовал он на то, чтоб быть поэтом, не испытывал ни зависти, ни недоброжелательства к другим, успевшим, а значит, имеет право спокойно и непристрастно исследовать их жизнь. Правда, иной раз сомнение: точно ли он никогда не собирался быть поэтом или писателем и не имел здесь честолюбия, — одолевало его. Он силился вообразить себе то время, когда он юношей делал выбор, но схема этого выбора, все, о чем он грезил тогда, какими рассуждениями руководствовался, как-то истерлись из его памяти. Сам ли он сказал себе, что лучше заняться положительным делом, а талант, если он есть, обнаружится, или так говорил его старший брат, тоже колеблясь, этого Николай Владимирович вспомнить не мог. «Был у меня талант или не был — как это теперь проверить? — улыбнулся он в вагонный сумрак. — Если и был, то от неупотребления, наверное, уже исчез… Но неужели, — ужаснулся он через несколько секунд, — неужели я тот самый ленивый и лукавый раб, зарывший свой талант в землю?! Всякому имущему дается, а у неимущего отнимется и то, что имеет… Неужели это произошло со мной?!.»