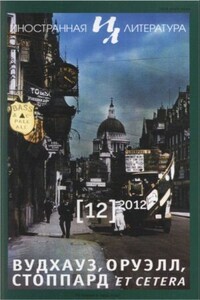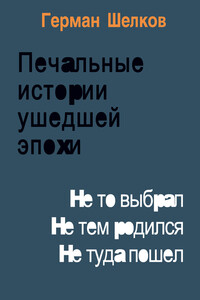Фрау Шенкель вздернула голову и вперила в герра Хоффера тяжелый взгляд.
— Герр Хоффер, вы хотите сказать, что, желая избежать призыва, подкупили крайсляйтера картиной из музейного фонда?
— Это слишком сильно сказано, фрау Шенкель…
— И сделали меня невольным соучастником?
— О чем вы? Не понимаю.
— А кто, по-вашему, печатал фальшивую опись, герр Хоффер?
— Фрау Шенкель, — вмешался Вернер, — никому нет дела до вашей описи.
— А мне есть!
— Послушайте, — раздался приятный молодой голос Хильде Винкель, — почему мы все время должны ссориться? Варвары у ворот!
— А, вот он — ваш драгоценный реализм, моя дорогая фрейлейн Винкель! — вскричал Вернер Оберст.
— Не реализм, а натурализм. Я предпочитаю термин "натурализм".
— Какая разница? Мне казалось, они взаимозаменяемы.
— До определенного предела, герр Оберст.
— Что ж, может быть, если смотреть с философской точки зрения.
— Приведу пример. Это ляжет в основу моего диплома. Разница, а точнее, различие, — продолжала Хильде, кипя безвредной, хоть и немного агрессивной юношеской энергией, — очевидна при сравнении ранней и поздней древнегреческой скульптуры. В том, как поздняя скульптура путем подражательного натурализма отдаляется от более древних норм идеализма. Особенно интересно влияние обоих периодов на наших современных мастеров, например Брекера, Торака, Альбикера. Видите ли, я убеждена, что в своем творчестве они новаторски сочетают оба периода. К примеру: изображая напряжение, усилие вздувшимися венами, не опускаясь при этом до декадентства подражательного натурализма.
Она часто моргала, словно ей швырнули в лицо горсть песка. Это был истинный интеллектуальный азарт.
— Как это печально, — вздохнула фрау Шенкель.
— И как они этого добиваются? — продолжала Хильде, хотя никто ее не слушал. — Всегда памятуя об идеале сверхчеловека, к которому, следуя заветам Платона, должна стремиться скульптура!
— Мы живем в невеселые времена, фрау Шенкель, — согласился Вернер.
— По крайней мере, я спас «Клеопатру» фон Бона, — сказал герр Хоффер. — Как только Фест ушел, я спустил ее сюда, на случай, если он передумает и вернется. Признаться, не знаю, что бы я ему сказал.
— Да, хоть это ты сделал, Генрих, — медленно закивал Вернер, поджав ногу и обхватив колено костлявыми руками. — По крайней мере, у нас есть «Клеопатра» фон Бона.
— Генрих? Генрих?
Моррисон говорил с ним. Голос стал высоким, потому что он умер. Призраки не разговаривают басом. Ты вернулся в детство.
Багровые отблески пламени дрожали на сводах. Перри всего трясло, но пламя трепетало само по себе, озноб тут был ни при чем. Ад не разверзся перед ним, ему явился ангел в облике женщины, не Моррисон. Или это все-таки демон, исчадие дремучих германских лесов, о которых ему рассказывали в Англии? Лесов, давших Гитлеру его сатанинскую мощь?
Перри попытался стряхнуть усталость и дрожь, словно они существовали сами по себе, отогнать от себя страх. Ведь большинство людей умирает не от пули, а от болезни.
Сигарета прилипла к губе. Он забыл ее зажечь? Или в подвале так мало воздуха, что сигарета потухла?
Женщина с лампой склонилась над четырьмя трупами у пролома. Когда она громко запричитала, Перри стоило большого труда не подойти к ней. Она убивалась по одному из покойников. Одного из них звали Генрих. Наверное, тот, на котором все еще были гиммлеровские очки, ведь она на него глядела. Да пропади все пропадом!
Это ведь он прижимал к себе крест, вспомнил Перри. Черт с ней. От сгоревшей картины осталась одна крестовина. Как скрещенные ключи или знак чумы на дверях в давние времена, вот хоть в старом Лондоне. Нет, меня там не было. И нечего пятиться. Это все крысы.
Перри похлопал себя по нагрудному карману, где лежали деревянные таблички, и вспомнил: надо попробовать спросить у нее, что значит Waldesraus. Это слово излечит его. Некоторые слова подобны хорошему лекарству, их можно жевать, как сладкий, хорошо пропеченный хлеб с целебными травами. Он ведь на четверть индеец, это кровь апачей играет в нем, кровь бабки, передавшей ему чуть раскосые глаза и смуглую кожу. Перри с усилием стряхнул с себя оцепенение. Женщина дрожала всем телом, и лампа — похоже, керосиновая — дрожала вместе с ней. В подвале ветра нет, подумал он. А наверху есть? Он не мог вспомнить.