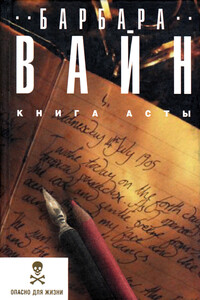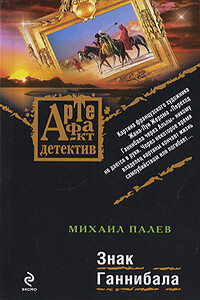Большинство людей встали бы на ее сторону. И я тоже притворяюсь, потому что не знаю, что еще делать. Я ничего не делаю, просто утратил способность сосредоточиться, и звонок Люси Скиптон, которая просит отложить наш ленч еще не пару недель, приносит мне облегчение. Ей очень жаль, но у нее клиент в Уилтшире, и именно в этот день она должна навестить его. Если бы Люси не позвонила, я, наверное, забыл бы и о ней, и о назначенной встрече.
Должно быть, я постепенно восстанавливаю душевное равновесие, потому что вспомнил об ужине с Лахланом Гамильтоном. Газеты пишут, что теперь, когда из наследственных пэров осталось всего девяносто два человека, Палата лордов практически пуста. Я этого не заметил, но, возможно, потому, что в день моего прихода они обсуждали одну неоднозначную статью законопроекта, и по такому поводу оппозиция собрала все свои войска. Закон о местном самоуправлении вряд ли окажет серьезное влияние на жизнь общества — за исключением одного аспекта. Это поправка с требованием исключить из раздела 28-й пункт, запрещающий местным властям «намеренно пропагандировать гомосексуальные отношения» среди молодых людей. Правительство выступает за исключение, оппозиция — за сохранение этого пункта. Пэры сцепились друг с другом, и в зале звучат такие слова, как «некрофилия», «скотство» и «содомия».
Я здесь не за тем, чтобы все это слушать. Причина моего появления совсем другая. Я впервые пришел в Парламент с тех пор, как в ноябре месяце был из него изгнан. Тогда я поклялся, что не вернусь сюда ни при каких обстоятельствах, но все равно пришел. Мне требовалась причина, чтобы вырваться из дома — я имею в виду дом на Альма-сквер, — сбежать от удушающей атмосферы разговоров о яйцеклетках, имплантации и близнецах. Я стыжусь своих мыслей — разумеется, стыжусь, — но устал от стыда, устал от угрызений совести, которыми терзаю себя дома. Приход сюда — смена обстановки. Однако есть еще одна причина. Я хочу вернуться к биографии Генри, но больше не могу говорить с Джуд о нем и о тайнах в его жизни. Ей не интересно, она ничего не хочет об этом знать. Джуд притворяется, делает вид, что слушает, словно говорит себе: «Ладно, даю ему пять минут» — я вижу, как она смотрит на часы, — а затем мы возвращаемся к действительно важным вещам, к реальности. Теперь ее жизнь подчинена кульминации, высшему достижению, к которому она неуклонно приближается, рождению ребенка. И какая разница, что в этом событии утонет все остальное: карьера, дом, я, секс, любовь, друзья, разговоры, развлечения? Предназначение женщины — давать начало новой жизни, продлевать род. И теперь Джуд это сможет. Благодаря чудесам медицины она сможет родить не только одного здорового ребенка, а двоих или даже троих. Неудивительно, что она больше ни о чем не думает.
Поэтому когда Лахлан приглашает меня на ужин, я решаю, что нужно проверить на нем свою теорию относительно Генри. Гамильтон, по крайней мере, не хочет детей. Их у него шесть. Сначала, конечно, я испытываю неловкость; мне придется бочком протиснуться в дверь для пэров, выдавить из себя ответ на доброжелательное приветствие швейцара: «Добрый вечер, милорд», — потом скромно сидеть на задней скамье, предназначенной для гостей, и ждать. Но я слишком устал от самобичевания и стараюсь не напоминать себе, что сам за это голосовал, сам это одобрил. Однако терпеть мне приходится недолго, потому что ровно в половине седьмого появляется Лахлан.
Если судить по лицу, похожему на морду моржа, и аристократическим манерам, то его никак нельзя заподозрить, что он будет голосовать за исключение статьи 28. Но именно так он и собирается поступить. Его внешность обманчива. Я вспоминаю наш разговор о Ричарде Гамильтоне и утверждение Лахлана, что все мужчины немного «голубые». Теперь он заявляет, что гомосексуальность — врожденное свойство. Ты либо такой, либо нет, и никакой рекламой или поощрениями тебя не изменишь. В данный момент у меня нет настроения выслушивать рассуждения о генетике, и я не собираюсь присутствовать в зале, где косные престарелые пэры (часть элиты и избранные девяносто два депутата) путают гомосексуализм и педофилию. Мне позволено устроиться на ступеньках трона, где я в последний раз сидел двенадцатилетним мальчиком. Рядом со мной какой-то незнакомец — молодой пожизненный пэр или старший сын наследственного пэра — шепчет, что он сам гей и что граф Рассел только что произнес лучшую речь в пользу исключения раздела, какую ему только приходилось слышать в парламенте. Я отвечаю, что мне, как всегда, не везет — я ее пропустил.