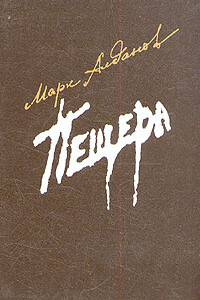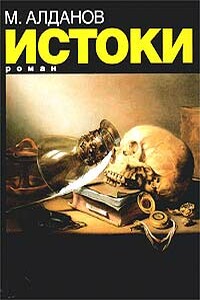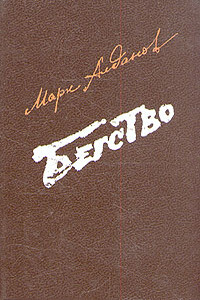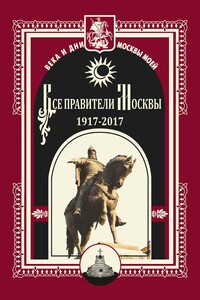Однако такой выбор поставил патриотически настроенных эмигрантов «по одну сторону баррикады с советской властью».
2. «Эмиграция должна признать ошибочность своих опасений, что советский режим убьет в народе патриотизм и гражданственность и этим подготовит его к добровольному подчинению иностранцам. Война опровергла эти опасения: Россия оказалась жива и национально здорова. Русский народ поднялся на защиту своей родины и своей обороной напомнил лучшие страницы русской истории. Иностранным завоевателям он предпочел свою, фактически управляющую Россией, власть. Вместе с нею он отстоял свою родину против ее внешних врагов». Правда, после этих слов, казалось бы, означавших капитуляцию перед советской властью и признание ее исторической правоты, следовала фраза, четко демонстрировавшая отличие маклаковской группы от «союза русских патриотов», вскоре переименованного в «союз советских патриотов»: «Он (народ. — О.Б.) этим заслужил свое право сам собой управлять».
3. В третьем тезисе отдавалось должное советской власти, которая «проявила себя иной, чем была раньше, когда приносила Россию в жертву мировой революции. Война не захватила ее врасплох. К защите России против врагов она оказалась готовой; она пошла вместе с народом; еще раньше войны она разорвала с прежним своим отношением к его старине; уступки, которые она сделала во время войны, были не только очень реальны, но имели еще большее значение символа. А сама она не пала духом перед опасностью, не предала ради своего самосохранения Россию в руки врагов. Она неразрывно связала свою судьбу с Россией и сумела ее защитить. В отстаивании России в этот момент советская власть показала себя достойной народа. После всего происшедшего, — провозглашался едва ли не центральный тезис программы, — эмиграция не может не признать ее русской властью».
4. По-иному теперь оценивалась и Октябрьская революция — не как «местный эпизод», а в качестве начала «мирового социального сдвига к более полному пониманию задач и обязанностей государства в устроении жизни людей». Резкое столкновение старого с новым, как теперь обтекаемо характеризовались кровавые события революции и Гражданской войны, не может быть вечным. «Революция, поэтому, всегда — явление временное. Она кончается по осуществлении тех заданий истории, которые были тогда достижимы, возвращением к правовому порядку на новых началах… Изживание революции началось в России еще перед войной, вопреки убеждению, что в советской власти не может быть эволюции, — выдавал желаемое за действительное Маклаков. — Есть идейная пропасть между революционной программой 1918 года с ее призывами к истреблению классов — и конституцией 1936 года, несмотря на ее недостатки. Национальная война за спасение Родины должна углубить и ускорить этот здоровый процесс; мы уже видим признаки этого».
Законнику Маклакову, несмотря ни на что, все-таки трудно было представить, что конституция 1936 года была не более чем клочком бумаги.
5. Однако признание заслуг советской власти в деле защиты отечества совсем не означало покаяния перед ней. «Эмиграция от своего прошлого не отрекается, — подчеркивалось в 5-м тезисе. — Непризнание ею советской власти было основано не на личных или партийных мотивах; она защищала не отжившие привилегии старого, а основы здорового государства, восставала не против начал нового социально го строя, а против приемов и методов их проведения в жизнь в таких размерах и темпах, что ими попирались вечные ценности общежития: законность, уважение к человеку, право населения управляться по своему пониманию».
Следовательно, речь шла не только о том, что эмигранты признали кое в чем правоту советской власти; ход событий подвел советскую власть к проведению в жизнь тех начал, которые отстаивала эмиграция и к которым, по мнению Маклакова, стремилось население России. Теперь начала законности, уважения к человеку, самоуправления «будут особенно нужны; население будет стремиться отдохнуть от революции и войн, и залечивать нанесенные раны». «Власть не должна идти наперекор этим общим желаниям, если не захочет потерять положения, которое было ею завоевано в этой войне». Меньше всего это «предупреждение» было похоже на капитуляцию. Эмиграция была готова примириться с существующей в России властью; но она не собиралась отказываться от своих основополагающих ценностей.