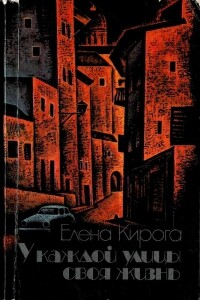В этом, вероятно, кроется и противоречивость оценок. Живой человек. Вспоминается эпизод из очерка Горького о Толстом. Толстой говорил о зяблике: «– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это?…Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с „Крейцеровой сонатой“, он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил: – Я не зяблик».
Известно, что после премьеры «Назначения» в постановке Ефремова Володин сказал: «Я не писал этой пошлости». Зинаида Шарко рассказывает, как Володин читал актерам «Пять вечеров». Каждую минуту прерывал чтение и говорил: «Извините, там очень бездарно написано. Я вот это исправлю и это исправлю. Ой, как это плохо!» В конце девяностых мы с Леонидом Дубшаном брали у Володина интервью. Он в который раз говорил о том, что многого и многого стыдится. Дальше по тексту: «Один раз меня спросили: „Александр Моисеевич, а есть хоть что-нибудь, чего вам не было бы стыдно?“ Я стал вспоминать: думаю, вот „Назначение“, „Пять вечеров“, что-то еще… и замолк на этом». Аргументы, вероятно, не нужны.
* * *
Об интервью. Их было несколько. Повода для первого я не помню, напечатано в газете «Невское время». По поводу второго Володин сам позвонил мне. Был его юбилей. В «Литературной газете» был заказан материал какому-то маститому критику. Но Александр Моисеевич просил, чтобы его написал я, поскольку предыдущая беседа ему очень понравилась. Если я соглашусь, то он с газетой договорится. Я согласился.
Потом в девяностые годы мы сделали беседу вместе с Леонидом Дубшаном. Вероятно, для радио. Но беседа не пошла, плохая запись. Недавно Леня напечатал фрагменты из нее в «Новой газете».
А вот потом было интервью, про которое вспоминать стыдно. Хотя в самом процессе я его совсем не стыдился. Делал по заданию «Звезды», где оно и вышло через несколько месяцев после смерти Володина. А было так.
Мы беседовали, конечно, по обоюдному согласию. Но Александр Моисеевич был не всегда в форме. Забыл однажды фамилию Окуджавы. Мне бы притормозить. Но – задание. И он, вроде бы, хотел. Да вот, как потом выяснилось, не очень-то хотел.
Мне, вообще говоря, именно в беседах с Володиным стало понятно, что у человека есть всего две-три истории. Не больше. У Володина это была встреча с Фридой, армия, война, а дальше, как говорится, по мелочи.
Бутылка, даже и утром, была на подоконнике. Я как-то спросил: «О самоубийстве не думаете?» Он ответил: «Тоже знаешь?» И тогда же сказал: «У меня вчера Фрида отняла последнюю загадку и интригу. Я ночью крадусь за бутылкой, а она из-за стенки говорит: Шура, бутылка в холодильнике. А я так таинственно ползал».
Мгновенность его реакции была замечательна. Как-то я заговорил о своей маме. И сказал: «Я люблю ее маленькие глазки». Он тут же подхватил: «Как ты это хорошо сказал!»
АМ был очень правдив, несмотря на режиссерскую повадку. Даже так верно сказать: он был очень непосредственным человеком. Например, звонил: «Это Володин». «Здравствуйте, Александр Моисеевич!» «Значит так, Коля. Зови меня Шура и на „ты“. Мы ведь коллеги. Если снова будешь обзывать, повешу трубку».
Я обещал, но никогда обещанного не выполнил.
Так все же про последнее интервью. Уже после смерти Володина я оказался в семье Гореликов. Петр Захарович – боевой офицер, друг Самойлова, Кульчицкого, Слуцкого. Его жена, Ирина Павловна, чудесная, обаятельная женщина, которой Володин звонил едва ли не каждый вечер, утоляя тоску по собеседнику. Так вот, она сказала мне, любовно, впрочем: «А вы знаете, что Саша очень обижался на вас? Он, правда, говорил во множественном числе: неужели они не понимают, что я уже ничего не могу, Ира? А они все спрашивают, и спрашивают».
Возможно, это относилось и к Лене Дубшану. Не уверен. Скорее, по ошибке к Наташе Громовой, с которой я пришел к нему в последний раз. Наташа – талантливый прозаик, а в то время еще и драматург. С подачи Володина у нее была поставлена в Ленинграде пьеса. И вот она приехала, а я Володину должен был показать окончательный вариант беседы. Он просил, чтобы мы пришли вместе.