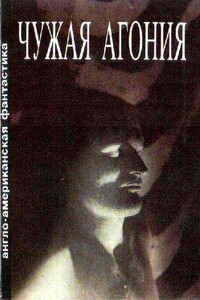Я сходил с ума. Язык уже с утра был шершавым от лекарств, будто я наелся хурмы. Бодрая песенка: «Бери коньки под мышку – и марш на каток!» – действовала сильнее пыток. Я стал выключать радио. Но тут же начинал слышать отрывистые голоса мальчишек за окном. Они возникали и исчезали, как брошенные в пропасть камешки. Яблочный запах снега из форточки обжигал ноздри.
Оставались книги. Читал я почему-то украдкой, как будто и это мне было запрещено. А книги были важные, те, что не по возрасту. «Осуждение Паганини» Виноградова, «На воде» Мопассана и его же «Милый друг». Герои их – гений, философ и любовник – и каждую книгу я воспринимал как их исповедь. Доза этих преждевременных для меня откровений оказалась не смертельной лишь потому, что я, видимо, не все умел понять, казался себе то одним, то другим, то третьим, оставаясь обыкновенным школьником, у которого обнаружили порок сердца.
Комната, в которой я лежал, была длинная и темная. Угол у печки отгораживался вишневой занавеской с белыми цветами. За ней стояла изъеденная древесным жучком фисгармония. Как раз перед болезнью я упросил родителей забрать ее у соседей, собиравшихся выбросить инструмент на чердак.
По ночам из-за занавески ко мне выходил глиняный лысый доктор. Он подолгу разговаривал со мной, брал меня за руку, и мне казалось, что этот огромный улыбающийся доктор зовет меня к смерти.
Ключ ко многим видениям детства утерян навсегда. Не знаю, почему это был доктор, почему он был глиняный. Да и глиняный ли? Если и глиняный, то до обжига глины, пока она еще легко поддается деформации: собрать морщинки на лбу, улыбнуться, совершить плавное движение кистью руки. Но почему я боялся его? Ведь он был добр…
Когда никого в комнате не было, я вставал с постели, садился за фисгармонию, половина клавиш которой западала, и, не имея никакого представления о нотной грамоте, подолгу импровизировал. Уже одним тем, что решался входить за занавеску, я бросал вызов глиняному доктору.
Чувствовал ли я себя в тот момент творцом? Вряд ли. Хотя… Клавиши руководили моими пальцами, фисгармония вздыхала, когда в слепом повиновении ей я погружался в дремучие звуки и вдруг вплывал в быстрое течение случайной мелодии.
Комната, в которой я пролежал всю зиму, с вышитой на белой скатерти девушкой, бесконечно протягивающей мне ложечку с микстурой или манной кашей, с запахами лекарств, густо замешанными на запахе душной герани, – все преображалось музыкой. Тупые удары некоторых молоточков о деку были так же необходимы здесь, как и все остальное.
В эти дни я часто думал о Ней.
Случалось, особенно вечерами, какая-то теплота проходила волной по телу, становилось радостно и уютно, будто я – шарик, удачно попавший в лузу. Зрение начинало играть. Так бывает при высокой температуре: путаются масштабы предметов. Маленький троллейбус за окном катился бесшумно и, казалось, вот-вот въедет на подоконник и обронит на пол лиловые искры. А тени длинных плоских кактусов на занавеске, напротив, напоминали высокий тропический лес, в котором ползают огромные черепахи. Черепахами были непомерно крупные божьи коровки. В комнате прибавлялось теплых коричневых теней, как на старых картинах. Я видел ее картиной комнаты и комнатой, то есть как бы и видел и вспоминал одновременно.
В такие вечера я начинал осторожно искать нужное мне воспоминание. Знал: если правильно вспомнить, радость станет полнее.
Так вот – таким воспоминанием часто оказывалась Она.
Смешно сказать: в эти годы мы еще, по существу, не были знакомы. Я не знал, где она живет, есть ли у нее братья и сестры. О чем она любит думать перед сном – я ничего про нее не знал. Сначала она просто была из круга тех, кого знаешь в лицо, потом перешла в другой, где у всех уже были имена, затем, встречаясь на улице, я стал говорить ей «привет», но не останавливался.
Но вечерами далекость эта казалась неважной, одной из тех преград, которые теряют силу для больных и влюбленных.
Наутро в импровизациях появлялась Ее мелодия, с ней я чувствовал себя в безопасности, она легко побеждала мелодию глиняного доктора.