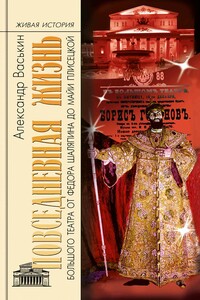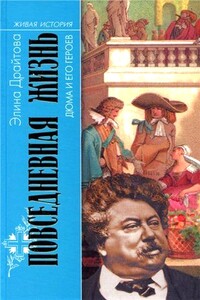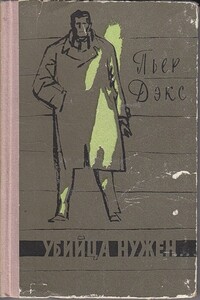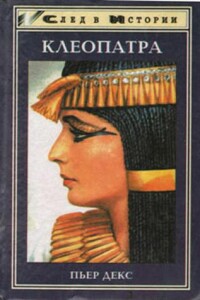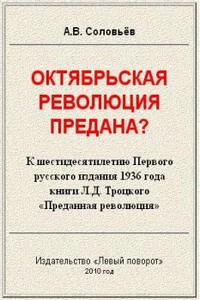Компартия восприняла это спокойно (или почти не обратила на это внимания). Бенжамен Пере, поступивший на работу в «Юманите», где ему доверили вести рубрику происшествий, остался сотрудником газеты, хотя и подписался под брошюрой «Откровенно» (и не отмежевался от «Допустимой самообороны»).
Пятеро не могли предвидеть, что членство в компартии постепенно утрачивает прекрасную простоту. Навиль первым это заметил. «Приняв участие в деятельности коммунистической партии, — пишет он, — я сразу столкнулся с кризисом этой партии, вернее, российской компартии и всего Интернационала». В самом деле, именно в этот момент спор между Троцким и Сталиным принял наибольшую остроту. «На практике было уже мало приветствовать зарю пролетарской революции, взошедшую на востоке, требовалось нащупать особый путь в революции, где смешалось столько интересов, ограничений, людей. Что касается меня, весной 1927 года я принял сторону «левой коммунистической оппозиции», как это называли в СССР, символом которой был Троцкий».
Но сюрреалисты превратили членство в компартии в проблему абсолютной морали. «Этот кризис, — подчеркивает Навиль, — превращал формальное признание общей обоснованности коммунистической политики в проблему; причем Бретон, и тем более Арагон, не хотели бы, чтобы именно эту проблему ставили их друзья». Поэтому, когда годом позже, в начале 1928 года, Навиля исключили из партии за оппозиционность, публикация им в «Кларте» исторической статьи Виктора Сержа «Год первой русской революции» о разногласиях между Лениным, Бухариным и Троцким по поводу Брест-Литовского мира в 1918 году привела к разрыву с Бретоном из-за «оскорбления идеала», и этот разрыв продлился шесть лет.
В конечном счете Бретон и близкие ему люди рассматривали коммунизм — в СССР или в представлении французской компартии — как неотъемлемую часть мифа о Революции. В этом они гораздо больше принадлежали своему времени, чем им казалось. В самом деле, тогда же Матье, возглавлявший в Сорбонне кафедру истории французской революции, втолковывал своим студентам, что большевистская революция — дочь Горы и Комитета общественного спасения… Несмотря на победу в 1918 году, Франция — обескровленная, ушедшая в себя, замкнутая в угасающей экономике, — отныне переживала Историю лишь по доверенности. Сюрреалисты же переживали настоящую культурную революцию, имевшую гораздо больший международный масштаб, чем творчество французских писателей, экспортировавшееся под эгидой официальных служб, но они считали необходимым уцепиться за революцию в Советском Союзе, использовать ее в качестве прецедента.
Дриё снова вмешивается в дела группы, потому что выход «Парижского крестьянина» отдельной книгой был встречен молчанием критики. Время отпусков, враждебность к сюрреалистам со времен их выходок (к тому же, как мы увидим, Арагон в конце своей книги вставил пару ласковых против критики) — да, конечно, но критики еще и были сбиты с толку книгой, непохожей на другие, не укладывающейся ни в какие рамки. Шокировал ли их подробный отчет о визите в небольшой бордель, скрывавшийся в Оперном проезде, который был недавно снесен? Сегодня это уже не важно, важна реакция Дриё.
Он только что выпустил вместе с Берлем ежемесячник «Последние дни». Редакционная статья, под которой стояли их подписи, яростно обличала «стачку» критики, встретившей «Парижского крестьянина»: «Недопустимо, чтобы молодой человек из провинции или иностранец, жадный до литературы, не знал о «Парижском крестьянине», тогда как он полагается на определенных людей, чтобы те сообщали ему о литературных новинках… Важность того, что пишет г. Арагон, ни у кого не вызывает сомнений… Только особого рода теология хотела уничтожать книги, вместо того чтобы обсуждать их. Только особого рода политика основывается на бойкоте новостей».
Напомню, что Арагон, опасаясь прослыть «литератором», сделал все, чтобы вызвать эту «стачку», провозгласив в конце книги: «Есть такие преследуемые преследователи, которых называют критиками. Я не допускаю критики… Я не допускаю, чтобы повторяли мои слова. Противопоставляли их мне. Это не условия мирного договора. Между вами и мной — война». Этот перегиб, бывший для него самым испытанным способом выпутаться из безвыходной ситуации, заставил его перейти к войне на деле: с тростью в руке он разгромил редакцию «Нувель литтерер», повыбрасывал пишущие машинки в окно и попутно вздул Мориса Мартен дю Гара, которому хватило ума не заявить в полицию.