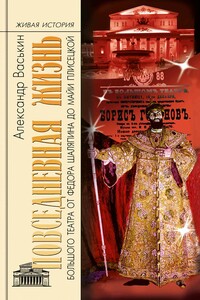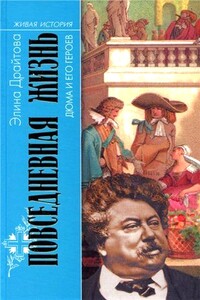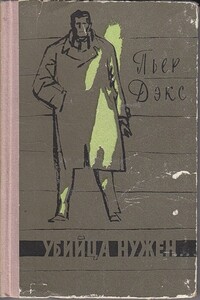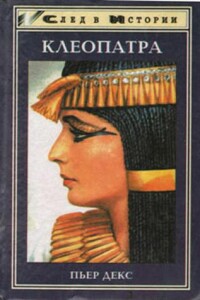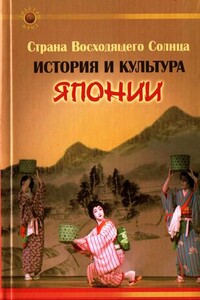Публикация в журнале с небольшим тиражом и коммерческий провал первого издания спасли целомудренных читателей от удара. Эти откровенности никоим образом не всплыли во время дискуссий, начавшихся в группе во время публикации. Надо сказать, что реализм в деталях послужил трамплином для его противоположности: «Я слишком люблю и уважаю любовь, чтобы какая-нибудь гадливость отвратила меня от самых жалких, наименее достойных ее алтарей». Арагон раскрывается, обретает свой голос и стиль, обозначая разрыв между самой заурядной повседневной жизнью, взятой на самом тривиальном уровне, и «великим помутнением рассудка». Он заявляет: «Я лишь миг в вечном падении. Увязшую ногу не вытащить». Но в то же время: «Современный мир согласуется с моей манерой бытия. Нарождается большой кризис, определяются очертания огромного потрясения. Красота, добро, справедливость, истина, настоящее… и множество других абстрактных слов рушатся в этот самый миг… Меня пронзает озарение меня самого. И исчезает… Я граница. Черта».
Первый «Парижский крестьянин», опубликованный примерно за три года до своего выхода отдельной книгой, состоял именно из этого удивительного символа веры. Такое вступление, завершающееся в борделе (как в «Улиссе» Джойса), задает и канву для самого большого романа, задуманного Арагоном, — «Защита бесконечности». Но я привожу его здесь, чтобы показать, что представления Арагона о жизни (и о писательстве, в его глазах они неразрывны) были несовместимы с деятельностью группы — в направлении, заданном Бретоном.
На самом деле весь этот текст — скрытая дискуссия с Бретоном, и, как всегда, Арагон забегает вперед: «Что ты собирался делать, друг мой, на краю реальности?» Но эта увертка не может снять с него всех подозрений. Тогда, вместо того чтобы отмежеваться от постдадаистского сектантства, в котором замкнулась группа, Арагон, напротив, публично примет его, даже усугубив, причем самым нарочитым образом, чтобы заставить забыть о том, в каких сложных отношениях он состоит с ортодоксальными правилами движения, причем и в повседневной жизни тоже. Разве он не устроил себе отпуск, пропутешествовав всю вторую половину 1922 года? А вернувшись, поступил на постоянную работу к Эбер-то в театр «Шанз-Элизе» и в дополнение к скудному жалованью у Дусе стал получать 800 франков в месяц за то, что превратил «Пари-журналь», до сих пор бывший афишкой, в литературный еженедельник.
Кстати, в тот четвертый год главную опасность для сплоченности группы представляли собой именно социальные или профессиональные обязательства зрелого возраста. Переход от мечтаний или свободы развлечений к повседневным заботам совершался туго: материальная жизнь, несмотря на принимаемые предосторожности, развела сюрреалистов в стороны. Тем более что, как подчеркивает Маргерит Бонне, «многие из них были вынуждены заниматься литературной деятельностью в виде более-менее регулярного сотрудничества с газетами и журналами; они зарабатывали этим на жизнь, обычно очень плохо, что тем не менее не снимало тревоги и подозрений. С чего начинается сделка с совестью? Во всяком случае, велик риск разбежаться и потерять себя». Бретон этого не скрывает: он считает журналистику «распоследним занятием».
Всё это в особенности касалось Десноса, работавшего в «Пари-суар», Пере, извечного журналиста, ныне вхожего в «Журналь литтерер», и, естественно, Арагона из-за «Пари-журналь». В письме от 25 марта 1923 года Симона пересказывает своей кузине «суровый разговор между Бретоном, Арагоном и Десносом. Речь идет по-прежнему о позиции — и о журналистике, и о литературе, и о «быть в курсе», и о публике, и о постыдных уступках, и об уважении к себе». Группа возлагала на сотрудника газеты ответственность за всё, что в ней печатали; а ведь «Пари-журналь» — это не только Эберто, который в глазах Бретона и так уже считался с изъяном, поскольку являлся директором бульварного театра, но и те, кого побуждал писать туда Арагон, всегда умея найти неожиданного автора — например, Андре Жида, Колетт.[85] Кстати, по этой причине он считал себя обязанным в собственных критических статьях устраивать, в виде компенсации, демонстрации литературного дадаизма, учиняя разнос всем — от Марселя Пруста до Пьера Бенуа.