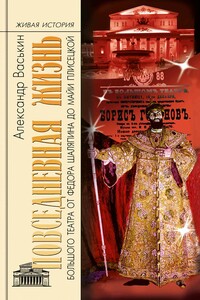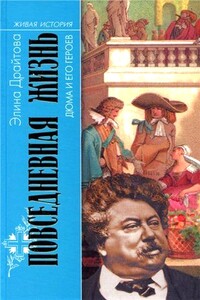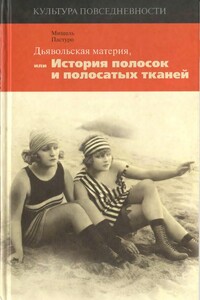Так обстояло дело в литературе. Рассмотрим теперь, как же все происходило в реальной жизни.
Тактика тех времен довольно проста. Перед началом сражения войско строилось в три ряда. В первом, сидя на корточках, располагались копейщики, вооруженные рогатинами и крюками, о которых уже говорилось выше; во втором ряду стояли лучники и арбалетчики; в третьем ряду находились всадники: тяжеловооруженные (рыцари) – в центре, остальные – по флангам. Именно они и только они выполняли наступательную функцию. Выстроившись по одной линии, они должны были совершать последовательные нападения на врага при поддержке с флангов собственной пехоты, за ней они могли укрыться в случае не очень удачной атаки. Лучники и арбалетчики не двигались со своего места; их действия сводились к защитной функции: сдержать натиск вражеской конницы и защитить свою. Единственное, что они могли сделать, – растянуться вдоль флангов (иногда даже замыкая круг), в том случае, если коннице со всех сторон угрожала опасность.
Довольно быстро, после двух-трех атак с обеих сторон, сражение становилось всеобщим и распадалось на ряд отдельных схваток. При этом каждый вассал или оруженосец старался не отдаляться от знамени своего сеньора и сражаться рядом с ним, что, впрочем, удавалось не всегда. После первого же столкновения опознавательные знаки (знамена, шпоры, рубашки с изображениями гербов) приходили в негодность. И это служило причиной многочисленных ошибок. Можно было, конечно, использовать боевые кличи, но они, скорее, устрашали врага и поднимали общий дух войска, нежели служили ориентирами в гуще сражения. Если эти кличи не являлись политическими или религиозными призывами – как, например, знаменитое «С нами Бог!» крестоносцев, то возглашались названия феодов, иногда сопровождаемые определениями. Так, люди графа Генегаусского гордо восклицали: «Благородный граф Генегаусский!», а фламандские военачальники, намекая на герб своего предводителя, кричали: «Львиная Фландрия!»
Но даже когда в сражении все перемешивалось, каждый рыцарь старался сразиться только с одним рыцарем из противоположного лагеря. Причина этого не столько в соблюдении правил рыцарской чести, которых, в принципе, не существовало, сколько в стремлении к достижению корыстных целей: захватив пленника, следовало потребовать выкуп и тем самым насколько возможно обогатиться. Противников не убивали, а брали в плен и затем продавали. Таким образом, в самых ожесточенных рукопашных схватках постоянно совершались всевозможные сделки: стоило пленнику пообещать заплатить выкуп, его сразу же освобождали, и он снова брался за оружие, чтобы, в свою очередь, пленить того, чей выкуп возместит его собственный ущерб. К тому же суровая военная реальность иногда заставляла изменять даже самым нерушимым клятвам в верности и оказании помощи. Когда сражение становилось слишком жарким, а удача – неверной, сеньору вновь приходилось договариваться с сопровождающим его войском о поддержке! Деньги – вот основная движущая сила сражения. В реальной жизни не существовало воинской доблести Говена, Ланселота и их соратников. Конечно, воины были достаточно храбрыми (в конце концов, кольчуга защищала практически от всех ударов), однако отвага еще не стала необходимой добродетелью. Каждый пытался выйти из боя невредимым, как в денежном, так и в физическом отношении: ловко увернуться от стрел, выпущенных из арбалета (единственного по-настоящему смертоносного оружия), постараться, чтобы тебя не выбил из седла кто-нибудь из пехотинцев противника, которым с началом всеобщей схватки полагалось валить лошадей и стаскивать всадников. В хрониках можно узнать о рыцарях «весьма осторожных» (читай «трусливых»), которые во время боя прятались один за другого.
В этих сражениях больше всего страдала пехота. Ее калечили всадники, топтали кони, и добивали свои в случае общего бегства. Если лучники и копейщики попадали в плен, за них не требовали выкуп у пехоты противника, их просто убивали на месте, чтобы ограбить. У рыцарей, наоборот, раны – многочисленны, смертельные же исходы – редкость. Если верить хроникам, возможно, такое случилось всего один раз, в битве при Бувине. Как бы то ни было, по приблизительным подсчетам, вероятность смертельного исхода составляла около двух процентов. Впрочем, сражение длилось не дольше двух часов, а участвовало в нем не так много войска. Недавние работы показали, что в своем распоряжении Филипп Август имел всего 1300 рыцарей, 1200 обычных конных воинов и около пяти тысяч пехотинцев, в рядах же англо-германской коалиции, возглавляемой От-тоном Брауншвейгским, насчитывалось такое же количество всадников и на одну-две тысячи больше пехотинцев. Эти цифры представляются довольно скромными и весьма далеки от размаха битвы при Солсбери, повлекшей упадок Круглого стола, где, как пишет Вас, сражалось около 100 тысяч воинов и, по свидетельству неизвестного автора «Смерти короля Артура»