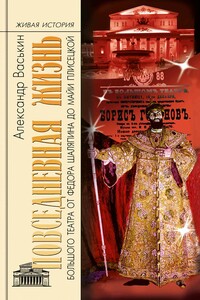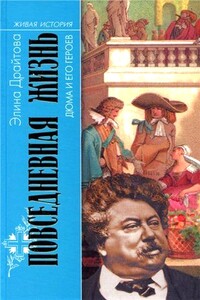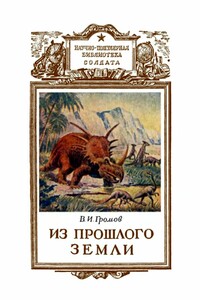I
5. Древние писатели основывались главным образом на догадках, но позднейшие, став очевидцами, установили, что Нил наполняется от летних дождей, когда происходит наводнение в Верхней Эфиопии, особенно в ее самой отдаленной горной области, и что после прекращения дождей постепенно прекращается и наводнение. Это обстоятельство стало совершенно очевидным тем, кто плавал в Аравийском заливе вплоть до Страны корицы, и людям, посылаемым охотиться на слонов (или по каким-нибудь другим делам, которые побуждали египетских царей Птолемеев отправлять туда людей). Ведь эти цари интересовались подобными вещами, в особенности Птолемей, прозванный Филадельфом, так как он отличался любознательностью и в силу телесной немощи постоянно искал новых развлечений и увеселений. Однако древних царей это не особенно интересовало, хотя как и сами они проявляли благожелательное отношение к науке, так и жрецы, с которыми цари проводили большую часть своей жизни. Поэтому приходится удивляться не только этому, но и тому обстоятельству, что Сесострис прошел всю Эфиопию вплоть до Страны корицы и памятники его похода — стелы и надписи — показывают еще и теперь. Когда Камбис овладел Египтом, он достиг вместе с египтянами даже Мероэ; и действительно, как говорят, он дал это имя острову и городу, потому что сестра его (иные говорят, что жена[43]) умерла там. Во всяком случае, он назвал это место в честь женщины. Поэтому представляется странным, как же у людей того времени, которые обладали сначала такими сведениями, не было вполне ясного представления о причинах дождей, в особенности потому, что жрецы довольно старательно заносили в свои священные книги и сохраняли там все, что обнаруживает их замечательные знания. Ведь если они вообще занимались наукой, то должны были изучать и этот вопрос, который изучается еще и теперь: почему же, наконец, дожди выпадают летом, а не зимой, и в самых южных частях, а не в Фиваиде и в области около Сиены? Но то обстоятельство, что разлив реки происходит от дождей, не подлежит изучению, и этот вопрос не требует таких свидетелей, о которых упоминает Посидоний. Например, он говорит, что Каллисфен считает летние дожди причиной разливов, хотя Каллисфен заимствовал это утверждение у Аристотеля, Аристотель же — у Фрасиалка Фасосца (одного из древних физиков), а Фрасиалк — у кого-то другого, а этот последний у Пэмера, который называет Нил «бегущим с неба»:
Снова к Египту, к земле бегущего с неба потока
[Корабли я направил].
(Од. IV, 581)
Однако я отказываюсь от обсуждения этого вопроса, так как им занимались уже многие писатели; из них достаточно указать только двоих (которые в мое время написали книгу о Ниле), именно Евдора и перипатетика Аристона; ведь, за исключением композиции, все остальное у этих писателей в смысле стиля и аргументации одинаково… Таким образом, древние писатели называли Египтом только одну часть страны — обитаемую и орошаемую Нилом, начиная с Сиенской области до моря; позднейшие авторы вплоть до нашего времени прибавили на восточной стороне почти все части между Аравийским заливом и Нилом (эфиопы вовсе не плавают по Красному морю); на западной стороне — части, простирающиеся до оазисов и на побережье от Канобского устья до Катабафма и владений киренцев. Ибо цари после Птолемея[44] достигли такого могущества, что овладели самой Киренаикой и даже присоединили к Египту Кипр. Римляне, которые стали наследниками Птолемеев, отделили их владения и сохранили за Египтом его прежние границы.
8. По очертанию территория города (то есть Александрии. — С. А.) похожа на хламиду[45]; длинные стороны ее, имея диаметр приблизительно в 30 стадий, с двух сторон омываются водой; короткие же стороны представляют перешейки в 7 или 8 стадий ширины каждый, ограниченные с одной стороны морем, а с другой — озером. Весь город пересечен улицами, удобными для езды верхом и на колесницах, и двумя весьма широкими проспектами, более плефра шириной, которые под прямыми углами делят друг друга пополам. Город имеет прекрасные священные участки, а также царские дворцы, которые составляют четверть или даже треть всей территории города. Подобно тому как всякий царь из любви к пышности обычно прибавлял какое-нибудь украшение к фамильным памятникам, так он воздвигал на собственные средства дворец вдобавок к уже построенным, так что сюда относятся слова поэта: