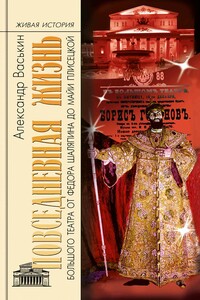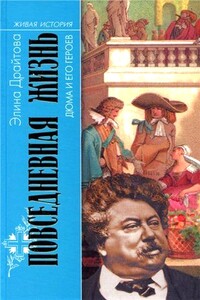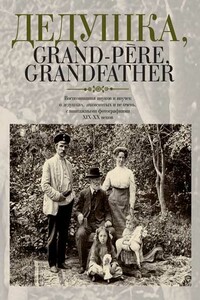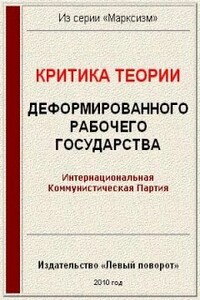Ориген упрекает христиан третьего века в суеверии, то есть что они, несмотря на священность христианской веры ими принятой, все еще оставались слепыми рабами суеверия идолопоклонников, коим подражали они при чихании, в волшебстве и т. п.
У греков был обычай при чихании говорить: помогай Зевес! Когда же кто из них чихал и не надеялся на учтивость присутствующих, то, конечно из особенной вежливости, он сам себе желал здравствовать.
Один из древних эпиграмматистов рассказывает о некоем Прокле, которому природа даровала толстую голову, огромные уши и предлинный нос; сей последний, по словам сочинителя, столько был длинен, что бедный Прокл одною рукою не мог утирать его, когда это нужно было; а уши у него так были отдалены от крайнего конца носа, что при чихании звук исчезал в воздухе, не дошедши еще до его ушей; почему он, прибавляет автор, и не мог призывать себе в помощь Зевеса.
Из сказанного видно, что привычка желать здоровья при чихании не есть выдумка VI столетия для предохранения себя от язвы; но обычай, происхождение коего теряется в глубокой ночи времен прошедших.
Древние верили, что чихание содержит нечто божественное и предзнаменует будущее; почему оно в греческом языке часто выражалось словом птица: ибо сии животные во многих отношениях были почитаемы предвестниками будущего. Плутарх в своем письме о гении Сократа говорит: «Что в медицине пульс для тела человеческого, то для души чихание, которое посему и обоготворили; по той же причине повергались на землю, когда кто чихал». «Почему, — спрашивает Аристотель, — чихание поместили мы в число богов; а не уважаем подобным образом кашель и одышку? Может быть, потому что оно происходит в голове, как наилучшей части нашего тела и жилище мыслей? Или потому — что чихание есть знак здоровья, но кашель и одышка напротив того есть знак нездоровья?»
Но сей Аристотелевой причины недовольно; поелику люди имели слабость обоготворить многие несравненно худшие вещи. Итак, в сем случае нет другой причины, кроме предрассудков обладающих весьма часто слабыми умами.
Тут надобно еще заметить несколько о гении Сократовом. Может статься, что просвещеннейший, полезнейший и почтеннейший сей философ Греции под откровением своего гения понимал нечто другое, а не чихание. По крайней мере сие подтверждает какой-то Тересий из Мегар, которого Плутарх следующим образом заставил говорить: «Гений Сократа содержался в чихании, или в собственном его, или и другого: ибо если он имел какое-нибудь намерение и когда кто чихнул — находясь у него на правой стороне или за ним, то сие служило ему хорошим предзнаменованием к исполнению своего намерения; но ежели кто чихнул на левой стороне, то сие было знаком, что он должен оставить свое предприятие. Что же касается до его собственного чихания, то оно значило одобрение предприятия, ежели случалось ему чихнуть при самом начатии; но когда происходило оно уже во время действия, то сие было предостережением, дабы оставить свое предприятие».
Сии слова крайне огорчают Плутарха, и он никак не может согласиться, чтобы толико прославленный гений Сократа мог состоять из такого ничтожного мнения и чтобы столь умный и рассудительный муж мог заняться подобными нелепостями. Но кто без слабостей? Мало ли видим мы и в теперешнем просвещенном веке, когда светило образования так сияет, мало ли видим людей, которые, прошедши несколько десятков учебных зал и наполнивши голову свою всеми познаниями, не оставляют самых грубых предрассудков? Почему и великий Сократ в таком веке, когда мифология, повести героических времен и картины обильные стихотворцев столько подкрепляли суеверие, не мог иметь своих слабостей? Век Сократа наполнен был бездною суеверных выдумок; многие философские системы, вместо того чтобы искоренять, еще поддерживали их; чудные заключения древних физиков, богослужебные обряды, предсказывания по полету птиц, по внутренности животных, пророчества оракулов, гадание по звездам, одним словом, все обстоятельства соединилися и запутали гордиев узел суеверия так крепко, что нельзя было его развязать иначе, кроме как решительным ударом божественного меча Откровения.