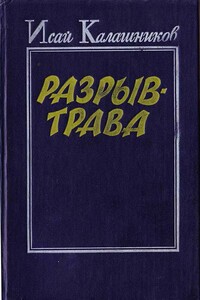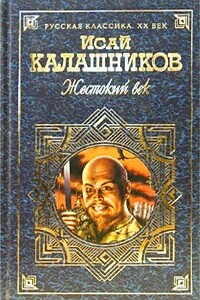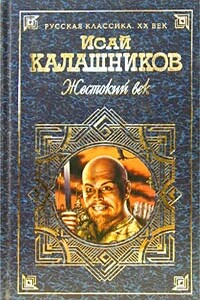— Извини, Соня. Я, конечно…
— …тип еще тот — это хотел сказать? Признаюсь, я обиделась. Мог бы все-таки оставить свои координаты. Самой пришлось добывать. Ну ничего, как-нибудь сочтемся. Я уже не сержусь. Говорят, что нет худа без добра. Тут — так. Мне, кажется, повезло. Понимаешь, я давно мечтала написать повесть о взаимоотношении человека и природы. Колоссальной важности тема. Но как к этой теме подступишься? Ясности — никакой. А тут этот случай. Почти готовый сюжет. И какой! Два полюса — защитник и хищник. Схватка противоположностей. Непримиримый конфликт. И этот трагический финал.
— До финала еще далеко.
— Для вас. Но не для меня. Терпеть не могу писателей, закабаленных фактом. Нужен импульс, впрягающий в работу воображение. Остальное зависит от ума и таланта. Словом, Миша, я не сержусь. Сюжет этот можешь считать своим подарком.
Слушая Соню, он слышал и шарканье ног Агафьи Платоновны, позвякивание посуды, плеск воды, и снова его сознание как бы раздвоилось.
— Ничего себе — подарок!
— А что?
— Да то, что лучше бы такого подарка вообще не было. И твоей повести об этом случае — тоже.
— Понимаю. — Соня пустила струйку дыма, проследила, как она, сминаясь и скатываясь в облачко, поплыла к потолку. — Я тебя понимаю. Но и ты меня пойми. Убит человек. Ум мой это воспринимает. А душа нет. Это не черствость, Миша. Это естественный защитный рефлекс. Без него люди не смогли бы жить. Согласен? Вижу, что нет. Постараюсь объяснить иначе. Почитай газеты. В мире каждый день убивают — мужчин и женщин, детей и стариков. Если боль за каждого будет проходить через сердце, оно обуглится, как пронзенное током высокого напряжения. К счастью, нас защищает особенность нашего сознания. Любой человек, пока его не знаешь, пока не видел его лица, его глаз, не слышал его смеха и речи, — абстракция. Разве нет? Вот вы ищете преступника. Для вас он, признайся, тоже абстракция, не вырисовывается ни определенного облика, ни цвета волос, ни роста.
— Для меня вырисовывается другое. Преступник один. А страдают многие. Вокруг него образуется незримая, но реальная зона горя, боли, страха, ненависти, подозрительности.
— Возможно, так оно и есть. — Подумав, Соня добавила: — Не попадала в такую зону, мне трудно что-либо сказать. Но думаю, что человек, ощутив на себе тлетворное влияние этой самой зоны, всегда может выйти из нее. А вот тебе в ней работать. Трудно это?
— Трудно не это, другое…
— Что же?
Но все то, о чем он передумал в последние сутки, нельзя было изложить в двух-трех словах.
— Я знаю одно. Наша работа такова, что годится для нее не каждый. Нужны определенные качества. Я, например, этими качествами, кажется, не обладаю.
Она внимательно посмотрела на него.
— А я думала, что самоистязание — свойство нашего брата. Брось, Миша. Ты перенял у своего шефа преувеличенное мнение о родной милиции. Чрезмерное нередко становится смешным.
— Что-то не заметил, чтобы ты смеялась, когда говорила с Алексеем Антоновичем.
— Послушай, да ты колючий! Ладно, ладно, не лезь в бутылку. Ради тебя готова согласиться: лучшие умы — в милиции…
Мише не хотелось, чтобы она говорила так. Круто сменил тему.
— Как у тебя со стихами? Что-то редко печатаешь.
— Года к суровой прозе клонят, — улыбнулась Соня. — А что вам засекреченный товарищ пишет?
— Давно его не видел, — чувствуя, что краснеет, сказал Миша.
Вот еще одно последствие его ветрености и легкомыслия. Укрылся за безымянным «товарищем», а Соня, скорее всего, обо всем догадалась. От кого же, спрашивается, он прятался? От себя самого, что ли? Глупо.
— Миша! — окликнул из «мужской» комнаты Зыков. — Последний приказ такой: спать!
Соня засмеялась.
— Миша маленький, Миша мальчик, Мише надо бай-бай. — Провела ладонью по его руке, — от плеча к запястью, как бы разглаживая складки на рукаве. — У нас еще будет время. Обо всем переговорим, все обсудим. Хорошо, Миша?