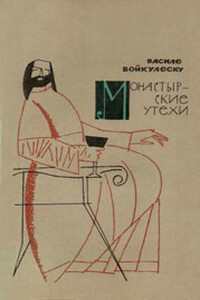Нет, до сих пор она ни слова не произнесла, не было к тому повода. Только кивнула, когда он уступил ей место, место у окна по ходу поезда, хотя оно ей было ни к чему, на улице стемнело. Ночь. До Бухареста уже недалеко, может, час, самое большое полтора.
— Хорошо, — сказала она, подняв голову. — Хорошо, я кое-что расскажу. Так, пустяк. А если вам станет скучно, прервите меня. Можете спокойно прервать, я не рассержусь. — И, помолчав, добавила: — Мне полезно поговорить, мне это нужно, для моих занятий в институте. Я изучаю педагогику.
Так. Стало быть, учительница или преподаватель высшего учебного заведения… Очки, серый костюм с пятнами мела. Палец вверх, пронзительным окриком призывает класс к порядку. Жаль… Но тут она начала.
Весенний лес. Смола, мох, сырая земля, светло-зеленые листочки, папоротник. Кустарник, еще не такой густой, чтобы не разглядеть гнезда. Коноплянки, снегири, зеленушки — все вьют гнезда. Еще вьют, время высиживать яйца наступило не для всех.
Две девчонки, семнадцатилетние — короткие юбочки, светлые блузки, — держась за руки, шагают в тени. Они шагают босиком, легкие туфли раскачивают в руках. Щебечут, хихикают, их босые пальчики погружаются в мягкие комья прошлогоднего перегноя, что усеивают лесную дорогу; нашпигованные осенними листьями, эти комья тихо шуршат и, словно ожидая, кого бы приласкать, лежат тут, и там, и на той стороне, и везде, куда ни кинешь взгляд, ждут, чтобы на них наступили белые, благоухающие мылом девичьи ноги.
Косынки, одна алая, другая голубая, завязанные вокруг шеи, развеваются на ветру — а шаги все быстрее и быстрее, ноги едва касаются тропы — и одновременно взлетают, словно их подхлестывает и гонит незримая, гигантская, неведомая химера, гонит куда-то в глубь леса, где высоко над ними темнеют буковые листья, а осенние листья лежат под ногами толстым сырым слоем и пробиваются между белыми пальцами, теперь уже пахнущими не мылом, а лесной землей, плющом и смолою.
В лесу едва заметно, как-то исподволь, мало-помалу темнеет. В этом лесу, думают девушки, в этом лесу почему-то темнее, чем везде. Они не знают, что над кронами деревьев уже промчались серые тучи, а теперь нависли грозно-черные, закрывшие свет солнца, лишившие его силы. И тут оно началось. Кажется, по буковым листьям осторожно, словно о чем-то напоминая, миллионы раз что-то повторяя, одновременно бьют сахарные кристаллики, шум этот созвучен настроению девушек, их семнадцатой весне, с ее шорохами, шепотом, гнездами и травами, жужжанием и постоянно обрывающимся щелканьем птиц.
Ну и дождь! Им такое и во сне не снилось. Жуть берет, наступает отрезвление, им холодно. Все на них промокло. Они насквозь промокли, вода с них течет ручьем. А дождь все льет и льет, зубы у них стучат все дробнее, дробнее, они дрожат от холода. А вот та, плачет она, или это капли стекают с бровей на ресницы. Глянь! Там что-то шевельнулось. Что это? Широкие листья с каплями воды слишком тяжелы, ветка, чересчур нагруженная, не выдерживает их веса. Обламывается и шлепается на землю. Страшно… Два тела прижимаются друг к другу, влажные, ищущие поддержку, нежные, тугие, вымокшие. И волосы у них мокрые, висят прядями, вода стекает с них струйками. Сотни ручейков бегут по плечам, груди, по спине и по лбу. Конца этому не видно.
И все еще конца не видно.
И все еще не видно.
Они плачут в унисон с журчанием воды. Теперь дождь хоть и барабанит по листьям, но тихо. Правда, отовсюду еще льет. Вода еще отовсюду стекает на землю, впитывается в землю, течет по канавкам меж корней, вниз, куда-то в долину, утекает, утекает куда-то вдаль. Может быть, там, меж стволами, где светло, уже тише. Там капает, но редко. Да и эта капель кончается. Постепенно.
Хорошо, что ни гром не гремел, ни молнии не сверкали. Девушки улыбаются. Зубы, белоснежные, меж бледными от страха губами. Никого кругом, кто бы это видел, ни одного человека. И ни единой капли больше сверху. Ничего, но у них все вымокло, и кожа у них гусиная от сырости. А по спине бегут мурашки. Комья земли, аморфные, мягкие, черные, застревают меж пальцами. Туфли они перевернули. Смеются.