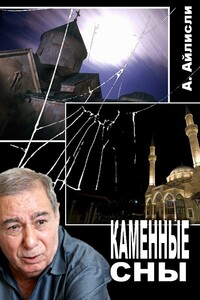Глава четвертая
Деревья без тени
Снилось мне, что я в поезде, еду в деревню. Лежу на верхней полке. Очень хочется спать, но заснуть не могу: в купе жарко, свет бьет в глаза…
Всякий раз, стоит мне сесть в поезд, я сразу, еще на вокзале, погружаюсь в атмосферу родных мест. Каждое слово, произнесенное так, как говорят лишь у нас, коснувшись моего слуха, что-то рождает в памяти. Особенно если это женский, девичий голос, потому что в женских голосах есть все: бузбулакское утро, вечер, речка, родник, солнечное тепло, дымок самовара, аромат чурека, которым так сладко тянет от тендира… Но сейчас я словно бы сел не на тот поезд: мужчина внизу давно уже бубнил что-то густым баском; голос вроде бы мне знаком, но выговор не наш. Иногда до слуха моего доносился чей-то плач; кажется, плакала девушка. Я не мог разобрать слов, которые она сквозь слезы говорила мужчине, но его слова время от времени достигали моего слуха: «И чего ты во мне нашла? Четвертый десяток, а добиться ничего не добился… Ну, пускай поженимся мы, получим в загсе бумагу, думаешь, жизнь со мной увидишь? Не увидишь ты со мной жизни! Какой я, к черту, муж? Одной жизнь покалечил, восемь лет замуж не выходит, чертовка! И говорил я себе: устроюсь, сразу поеду к ней… Увижу, что вела себя нормально и меня из сердца не выкинула, сюда привезу. Она ж институт кончила, учительница. А главное — у ребенка отец будет… Что я могу сделать?.. Видно, на роду написано жить не по-человечески… — Элаббас повернулся ко мне, увидел, что я проснулся, заговорил громче: — Раз она так со мной, судьба проклятая, плевать я хотел на эту судьбу! И на весь этот протухший мир! Ничего не дает человеку, пока подлецом не сделает! Вон Гияс!.. В Академию устроился! На „Волге“ разъезжает! Ничего, пусть себе… Пускай так живет, а мы как-нибудь по-другому…»
Уже несколько дней Вильма с утра приходит к нам готовить еду и каждое утро выслушивает нечто подобное. Девушка не обижается на Элаббаса. Она если и плачет, то как-то тихонечко, про себя. Но сегодня Вильма, кажется, плакала по-настоящему, и хотя глаза у нее сухие, на щеках дорожки от слез; она смущенно взглянула на меня, хотела улыбнуться, не смогла и, опустив голову, вышла из комнаты.
— Ну вот чего она? А? Ведь я же правильно говорю! Или неправильно?.. — Элаббас кричит это с другого конца комнаты, спрашивая то ли меня, то ли себя.
— Не знаю, Элаббас, сам решай. Но уж больно девушка хорошая. Такой не найти, ей-богу!
— Новость сообщил!.. — Он тяжело вздыхает и садится на кровать. — Будто я сам не знаю, какая она.
— Вот и женись, не завтра жизнь кончается.
Элаббас, вздохнув, отходит от кровати.
— Для тебя, может, только начинается, а для меня, хоть и не конец, но уж во всяком случае не начало. Не хочу никому больше жизнь уродовать. Пусть едет в Ленинград к тетке. Может, найдет хорошего парня, жить будет по-человечески. Да если б не родина моя, я б тут ни на минуту не остался! Знаю: жить не смогу в другом месте! Послужил бы в армии, понял бы, о чем речь!..
— А ворчать-то зачем? Ворчишь, ворчишь на девушку, будто старик какой… С женой сойтись решил — дело другое. Но ведь сам говорил — не вернешься туда. До смерти один будешь.
— Буду!
— Посмотрим…
— Сможешь посмотреть — полбеды. Боюсь, не сможешь ты этого увидеть. Разлучат нас с тобой.
— Кто же это нас разлучит?
— Судьба, милый, судьба. Знаешь, какая это зараза — судьба? Я ее штучки на своей шкуре… — Элаббас махнул рукой. — Ну как ты, к Салиму Сахибу не надумал?..
— Нет, решил не ходить.
— Будешь сидеть, ждать ректора?
— Буду ждать.
— А вдруг он после экзаменов махнет куда-нибудь на курорт?..
— Может, и не махнет…
— Я ведь скоро уйду отсюда, Гелендар. Без меня-то что будешь делать? — Уже несколько дней Элаббас с утра, выпив чаю, уходил в город, возвращался вечером, а вчера сказал, что на днях его обещали устроить на хорошую работу в трамвайном парке. Элаббаса мучило, что, если он уйдет, я останусь в общежитии один.
— Да ведь ждать-то всего ничего осталось. Как-нибудь…
— Как-нибудь… Ладно, вставай, пока горячий… — Элаббас вздохнул, потрогал рукой чайник, постоял, подумал… — Ты вот что, Гелендар, ты слушай, что я скажу: сиди и пиши. Понял? Твое «Письмо к матери» — это настоящее, клянусь! Особенно то место, помнишь, ты мне читал… Ну, где он сует голову под желоб, чтоб мать не слышала рыданий. Прямо мороз по коже!.. И про ту женщину… Как она девчонок своих на замок, чтобы с голода за плохие дела не взялись. Да, подлецов и тогда хватало — в войну! Подлецы были и будут… Вот поэтому сиди и пиши! Голова занята, и время быстрей пройдет! — Он натянул брюки, надел ботинки. — Ну, я потопал. До вечера!