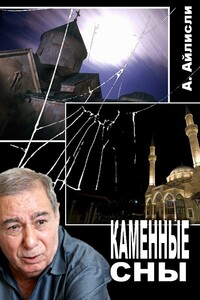В тот вечер, уже все сказав, Хашим долго расхаживал по айвану, но Самур ни слова не сказал брату, потому что не хотелось ему ничего говорить, потому что не было уже ни гнева, ни ярости, будто он уже сбросил тогда Хашима с айвана, а повторять это не было у него ни малейшего желания…
С тех пор как Хашим переехал, Самур иногда скучал, иногда — чаще всего по ночам — вдруг начинал тосковать; нападали кошмары, и он до утра не гасил свет. Но случалось, что даже при свете лампы ему чудились мамины глаза; два глаза, но они смотрели отовсюду, любящие, ласковые, и Самур плакал навзрыд, с головой забившись под одеяло. В такие минуты — только в такие минуты — и брат вдруг начинал казаться ему родным, близким; глядя в глаза матери, Самур видел его глаза — они были так похожи, — тогда, позабыв про мать, он плакал, жалел брата, сброшенного с айвана… Но, слава богу, все это было лишь ночью. Днем Самур снова становился независимым, свободным, шел в школу, насвистывая, с сигаретой в зубах — демонстрируя перед всей деревней эту свою свободу и независимость…
2
Хашим сдержал слово. Даже, когда Самур, окончив десятый класс, поехал в Баку поступать в институт, старший брат не стал делать никаких наставлений. Положил ему в карман деньги: «Езжай, чем черт не шутит, хотя я лично совершенно уверен: с институтом у тебя не выйдет…»
Но оказалось, что поступить в институт намного проще, чем добывать разные справки, в июльскую жару мотаться в район — в фотографию, или ловить директора, то и дело уезжавшего в Баку торговать на базаре, чтобы подписал аттестат.
На экзаменах Самур ни капельки не волновался, а положив в карман выписку из приказа, ни капельки не обрадовался. Получив выписку из приказа о зачислении, он прямо из института направился на базар, потому что единственный знакомый ему в этом городе человек днем всегда находился на базаре (Алекпер окончил в прошлом году школу и теперь торговал на одном из бакинских рынков, Самур и поселился у него); каждый вечер они пропускали по кружечке в пивной, недалеко от Алекперова дома, а уже часов в десять по деревенской привычке укладывались спать… Взяв в руки выписку, Алекпер стал внимательно изучать ее, вечером в пивной он несколько раз заставил Самура показать ему бумажку, разглядывал ее со всех сторон, даже на свет смотрел… Словно это была не выписка из приказа, а сотенная…
Самур еще дня три прожил у Алекпера, потом пошел в институт, попросил справку для общежития, и справку эту ему дали запросто, безо всякого; Самур рассчитывал, что с этой справкой он также запросто получит место в общежитии, но не тут-то было; ему и в голову не могло прийти, что комендант общежития отправит его за другой справкой — из санпропускника, без этого, мол, никак невозможно. Самур с ног сбился, пока в эту жуткую жарищу отыскал, где дают такие справки. Но хотя он и отыскал это место, добыть справку ему не удалось — видно, не суждено было поселиться в общежитии…
Перед желтоватым домом, от которого несло гарью, было полно народу. По одну сторону от двери стояли в очереди девушки, по другую — парни, — как назло, в баню только что привели ребят из ремесленного, и ясно было, что целый год пройдет, пока они перемоются.
Самур узнал, что есть еще одна баня — при вокзале, пошел туда, но и перед этой баней увидел ту же картину; тогда ему пришло в голову вернуться, сунуть коменданту трешку — он видел: кое-кто потихоньку совал коменданту деньги, и тот пускал безо всякой справки. Сначала-то он не осмелился, а теперь что ж делать: не мог же он знать, что ремесленники через час перемоются; ведь пока он добрался до общежития, чтоб сунуть коменданту трешку, ребята уже вымылись, встали в строй и, распевая про то, что чистота — залог здоровья, утопали к себе в общежитие… У коменданта было злое лицо, обрюзгшее, с редкой бородкой, и малюсенькие, круглые, как бусины, глаза. Самур поразился: сколько беспощадности, подлости может проглянуть вдруг в таких крошечных глазках.
— Но ведь ты только что брал у ребят!
— Что? Катись отсюда, пока… Мерзавец!
Самур снова поплелся к вокзальной бане; под вечер, когда до закрытия оставалось не больше часа, он наконец попал внутрь. И увидел длинный коридор и множество совершенно голых людей с трусиками и майками в руках, они стояли в очереди перед отверстием какой-то ржавой трубы; видимо, там, за стеной, все эти трусики и майки посыпали порошком и выжаривали в печке — от белья шел запах гари и дуста. За стеной сердито бубнила женщина, будто ругала чьи-то грязные трусы, ворчливый голос ее доносился из вонючей железной дыры, вероятно, это она посыпала порошком и выжаривала майки и трусики. Женщина выходила из себя, лютовала, а люди в коридоре смеялись, передразнивали ее — женщина еще больше злилась, еще громче кричала, и Самуру казалось, что женщина за стеной — это уборщица Заравшан, потому что, сколько он себя помнил, Заравшан всегда злилась на ребят за то, что они смеются… Но здесь, в коридоре, смеялись взрослые и к тому же, совершенно голые, здешней Заравшан приходилось намного хуже, потому что над ней смеялись голые люди… Голые люди совали свои майки и трусики в одну дыру, из другой дыры получали их. Голые люди мылись, плескались где-то за стеной. Они радовались, эти голые, и Самур никак не мог взять в толк, чему они радуются. Раздеваться при них донага Самур не хотел, не хотел стоять голым перед ржавой дырой, он хотел как можно скорей удрать отсюда, но он не удирал, стоял, словно заколдованный, и в этом странном заколдованном небытии ему снова представилось, что это школа: это школьные ребята плескались там, за стеной, их были голоса… Самуру казалось, что сейчас прозвенит звонок и начнется перемена… И еще казалось, что где-то льется, шелестит дождь, теплый, кроваво-красного цвета…