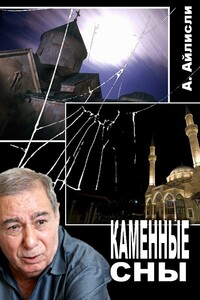1
Степь без конца и без края, снег по колено, луна, и в лунном свете по колено в снегу идут солдаты, обутые в черные сапоги; солдаты идут впереди и сзади, а он застрял, он не может стронуться с места: нога задубела, и никак он не вытянет ее из-под снега, сил не хватает вытянуть, а солдаты идут, идут и сзади, и спереди, еще немного — и те, что позади, свалят, затопчут его… Он собирает все силы, выдергивает ногу, но сапог увяз, сапог остался под снегом, а те, задние, все напирают, напирают… Он хочет крикнуть, чтобы подождали, чтоб командиру сообщили о беде: «Стойте! Сапог потерял! Сапог!». Он кричит, но никто не слышит его, потому что у него и голос пропал от мороза. Стиснув зубы, шагает он по этому проклятому снегу — одна нога в сапоге, другая — босая, и ужас в том, что разутая нога не мерзнет и не болит, ее будто и нет, этой ноги. С каждым шагом ужас сгущается, тяжелеет, а нога делается все легче, невесомей, потому что тяжесть ее ушла вверх, к сердцу, но ему сейчас не до сердца — нога, ногу пилят! Пила уже дошла до кости — сквозь скрип снега под солдатскими сапогами он слышит, как железо скрежещет о кость…
Скрежета этого Зияд-киши не вынес — проснулся; вздрогнул, глянул в окно, сел и набросил на плечи пиджак.
— Жена, — сказал он. — Пропал наш инжир!
Аруз не издала ни звука, но Зияд-киши знал: слышит; за пятьдесят с лишком лет, что он прожил с женой, не было случая, чтоб она не проснулась, если окликнуть. «Женский сон — птичий сон» — в Бузбулаке любому известна эта истина, и здешние женщины с пеленок усваивают ее.
Зияд-киши обул в коридоре галоши, спустился во двор: светло, луна сияет, и не поверишь, что с вечера мело. Неба чистое, без облачка, лунный свет как приморозился к снегу, блестит на нем свежей полудой, а из звезд будто льдинки сеются. Такого мороза не то что инжир — мушмула не выдержит.
«Своей рукой, — сокрушенно пробормотал Зияд-киши, — собственной своей рукой…» Он хотел сказать: «Собственной своей рукой убил», но поостерегся, потому что стоял возле инжира — нельзя, чтобы дерево слышало слово «убил». Горько было ему, потому что знал, потому что с вечера чуял, — быть морозу, хоть снег и валил вовсю, когда он выходил за водой. Он еще подумал укутать инжир — полотнищем, на которое ягоды стрясают с шелковиц, — да поленился из тепла выходить, от печки горячей оторваться. Но главное — погода, не поймешь ее, а то мыслимое ли дело: видишь же, что прояснилось, что быть стуже, а ты идешь себе да преспокойненько спать ложишься?..
Пропало дерево, сгубил его мороз. Крона погибла точно, может, ствол ничего, может, уцелел, тогда обрезать весной покороче — обойдется, а уж если и ствол тронут — тогда все, тогда только выкорчевать. Но выкорчевывать ли, пилить ли — одно другого не легче, — Зияд-киши и мысли не мог допустить, чтоб дерева коснулась пила: в ушах у него еще стоял ее мерзкий скрежет.
Зияд-киши словно примерз возле инжирового дерева. Нога опять задубела под снегом и — странное дело — опять не ощущала холода. Сейчас, кроме его онемевшей ноги, на всем белом свете не мерзло лишь инжировое дерево. Зияд-киши точно знал (и откуда он мог это знать), когда дерево почувствовало холод, когда начало коченеть и когда, вконец закоченев, стало засыпать смертным сном. Дерево ждало его, звало на помощь, беззвучно кричало о беде, и — самое главное — слышал, слышал он этот безмолвный крик, но лень одолела, из постели не захотелось вылезать, из тепла выходить не хотелось… Грех совершен, великий грех — старик понимал это, и он стоял и коченел, коченел, словно муками холода пытался искупить свою вину перед богом и перед деревом…
Зияд-киши вернулся в док, не чуя ни рук ни ног. Аруз уже беспокоилась: чего он там — не сдвинулся ли с места «аскал», застрявший под правым коленом?..
Сначала решила подождать: пусть согреется, отойдет, может, и боль отпустит; она ждала долго, но старик все не мог согреться, дрожал, с головой укрытый одеялом, и тогда она молча поднялась и пошла в коридор за дровами. Разожгла печку и снова легла. Печь разгорелась, свет ее озарил комнату, тепло помаленьку стадо проникать в зазябнувшее тело; мало-помалу холод отпустил старика, но горе никак не отпускало.