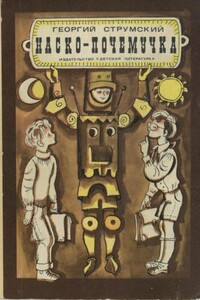— Как звать тебя, добрый человек? — спросил Афанасий, переходя на язык хоросанцев.
— Я — Чандака, — сказал хозяин, дотронувшись до своей груди. — Это — Чандра, — прибавил он, коснувшись желтого покрывала.
— Это — Калабинга, — сказал Афанасий, положив руку на головку своей маленькой приятельницы.
Индиец и его старшая дочь сдержанно засмеялись. Младшая залилась звонким хохотом.
— Калабинга — птица, — объясняла она чужестранцу его ошибку. — Это воробушек — Калабинга. А я — девочка.
— Дуня! — вскричал Афанасий. Как живая встала перед ним в ту минуту младшая сестренка, резвая Дуня, зазвучал ее звонкий неудержимый хохот.
— До-нио! — протянула девочка неуверенно. — До-нио… — повторила она несколько раз. — Нет, я не До-нио. Я — Камала. А ты кто? Скажи нам, — она лукаво и застенчиво заглянула в глаза гостю, оглянулась на отца и снова, бросив кругом лукавый взгляд, степенно, внушительно, как взрослая, как хозяйка, попросила:
— Милый гость, скажи нам твое имя! Кто ты, не боящийся обезьянского князя?
— Какого обезьянского князя? — недоумевал Афанасий.
— У обезьян есть свой князь, государь обезьян, — убежденно говорила девочка, — а у него свое войско. И если кто-нибудь обидит обезьянку, она жалуется своему князю — и он приходит с войском и жестоко наказывает обидчика.
— Вот не знал, — пробормотал гость, не то веря, не то не веря ее рассказу.
— Но если б ты и знал — все равно не побоялся бы! — вскричала девочка. — Все равно не побоялся бы и отнял бы у обезьяны моего воробушка — ты, самый смелый и неустрашимый из людей! Все-таки скажи нам свое имя, — она снова сменила свой детский лепет на взрослый, степенный и приветливый тон, — нужно, чтоб мы его знали. Это имя храброго, его не надо скрывать.
— Добрые люди! — мешая индийскую и персидскую речь, заговорил Афанасий. — Милые хозяева! Больше не буду таиться, скажу вам все. В этой стране меня зовут Ходжа Юсуф Хоросани, — это мое басурманское имя; а по правде — я родом русский, верою христианин, а по имени — Афанасий Никитин. Страна моя, Русь, лежит за горами, за лесами, за синими морями; путь оттуда далекий и трудный — о, трудный! Сколько горя, сколько мучений я принял на столь долгом и страшном пути!
— Расскажи! Все, все расскажи! — умоляла Камала.
— Доверься нам, усталый путник! — прозвенел, как певучая струна, нежный голос из-под желтого покрывала. И в лицо Афанасию заглянули сияющие звезды — доверчивые темные глаза под прямыми черными бровями.
Чандака негромко распорядился, и его дочери взяли из рук Афанасия медное блюдо с почетной медовой смесью, а вместо него принесли расписные чаши с вареным рисом, с морковью, с какими-то сладкими травами на ароматном масле. Гость насытился, отдохнул. Огонь очага угас, голубой лунный луч проник в хижину, травяные подстилки медово и пряно благоухали. Сам не зная как, Афанасий заговорил. Он рассказывал по-персидски, вставлял слова и целые обороты на арабском, татарском, узбекском, турецком, на всех знакомых ему восточных языках. Он вплетал в свой рассказ и слова на языках Индостана, а порой, не заметив того, переходил на русскую речь. Понимали его или нет, — он рассказывал и рассказывал. Ему казалось, что эти люди, даже не зная языка, слушают его сердцем, болеют его судьбой…
Вот повесть Афанасия — передаем ее так, как он хотел ее сообщить индийским друзьям: так, как она изложена в его заветной тетрадке.