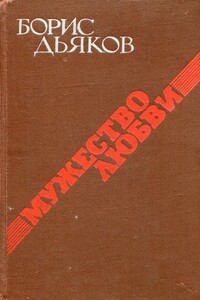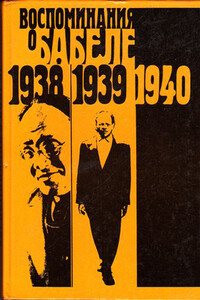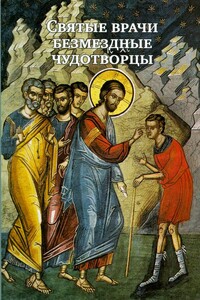Он!
— Яков Моисеевич!
Из-под лагерного треуха на меня глядели усталые, бесцветные глаза. Губы чуть раздвинулись в скорбной улыбке.
— Что с тобою? — ненужно спросил я.
— Опять кровь…
— Не задерживаться! — прикрикнул надзиратель. Рома понесли в пятый корпус. Я вспомнил: в библиотеке есть книжка его жены, писательницы Игумновой.
В КВЧ репетировали «Весну на Одере». На сцене раздавался тонкий голос Олега Баранова. Я извинился, что не могу быть на репетиции, открыл библиотеку. Вот и повесть «Маркизетовый поход». Я поспешил в пятый корпус.
Ром лежал на койке с открытыми глазами. В палате — полумрак. Пахло йодоформом.
— Яков Моисеевич! Смотри!
Он повернул ко мне голову, увидел книжку, приподнялся, выхватил ее из моих рук и вдруг засмеялся:
— Неправда…
Поднес книжку к глазам.
— Танина… Танина… книжка… — Он задыхался от волнения. — Вот и повстречались, повстречались…
А долго можно ее не отдавать… книжку? — спросил тревожно.
— Держи сколько хочешь…
Пробил отбой. С разрешения начальника режима Кузника я задержался в канцелярии, оформлял документы до поздней ночи. И все думал о своем…
«Страшен не лагерь. Он и должен быть строгим для преступников. Страшно другое: здесь — наказанные без преступления. Таких сотни, а может быть… ужасно об этом подумать… тысячи и тысячи!.. Кто загнал нас сюда? Кто объявил нас врагами?.. Фашисты, ненавистники советского строя? Так нет же! Это бесчеловечное и жестокое совершают люди, у которых такие же партийные билеты, какие были у нас… Мы вместе строили новую жизнь, защищали ее! Вот что сводит с ума!»
И снова загорелась мысль, не оставлявшая меня в лагере ни на один день:
«Неужели Сталин обо всем этом не знает? Оклеветали и расстреляли в тридцать седьмом плеяду военачальников, секретарей обкомов, членов ЦК, до сих пор держат за колючим забором Тодорского и других ни в чем не виновных коммунистов, старых большевиков, тех, для кого партия Ленина — вся жизнь, весь смысл ее! И Сталин поверил, что это все враги? Но если его могли так обмануть, значит, он не тот великий и мудрый, которому мы верили, которого любили и которого Барбюс назвал „Лениным сегодня“!.. А если все исходит от него самого?..»
Невозможно было оставаться с такими мыслями. Голова горела, сжимало горло. Я подошел к окну. На нем не было решеток. На черном стекле блестели снежные звезды. В темноте безмолвной ночи виделся большой, широкий мир, такой близкий и такой далекий. Что происходит в нем?..
Утром приехавший из Тайшета майор Яковлев вызвал Тодорского.
Александр Иванович явился в «хитрый домик».
Как всегда, свежевыбритый и надушенный, майор вежливо предложил стул — Тодорский сел; папиросу — Тодорский отказался. У Александра Ивановича слегка закружилась голова от давно позабытого запаха одеколона. Защекотало в носу и… под сердцем.
Майор долго закуривал, гасли спички. Потом сказал недовольным голосом:
— До меня дошли слухи, что в разговорах с другими заключенными вы называете себя коммунистом.
— Совершенно верно.
Майор, очевидно, не ожидал столь быстрого признания. Уставился на Тодорского своими бархатными глазами.
— Какой же вы коммунист? Вы заключенный! Вас наказал советский суд.
— Вам должно быть известно, гражданин майор, что на суде я не признал себя виновным. Я ни в чем против Советской власти не виновен. Поэтому был и остаюсь коммунистом.
Яковлев придавил в пепельнице только что закуренную папиросу.
— А для чего об этом кричать?.. Вы думаете, в лагере все любят коммунистов? Здесь есть гитлеровские холопы, самые отпетые фашисты, они когда-нибудь вам голову пробьют за то, что вы коммунист.
— Ну что ж… Значит, и погибну коммунистом!
Майор встал, резко отодвинув стул. Поднялся и Тодорский.
— Что у вас с ногой?
— Экзема правой голени.
— Залежались вы в больнице…
Об этом разговоре с Яковлевым рассказал мне Тодорский, когда я в полдень забежал к нему в корпус с просьбой посмотреть мое заявление Генеральному прокурору.
Он внимательно прочитал восемнадцать страниц убористого текста. Одобрил, только посоветовал сделать подзаголовки.
— Длинно очень… Не захотят читать. А необычная форма привлечет внимание.