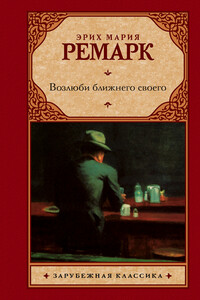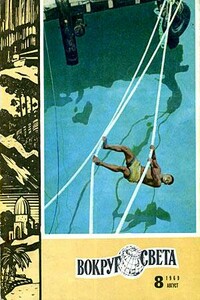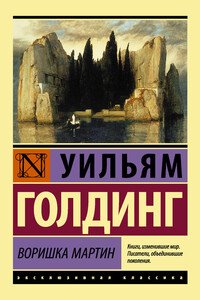– Что ни говори, он обуян гордыней!
– И погрязает в невежестве.
– Знаешь, он возомнил себя святым! Это он-то – святой!
Но, увидев в полумраке настоятеля, оба дьякона упали на колени.
Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости.
– Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клевещете?
Потупившись, они молчали.
– Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него. Ну-ка, ну-ка.
Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратил к себе сначала одно бледное лицо, потом другое.
– Попросите канцеллярия наложить на вас епитимью. Воспримите епитимью как должное, дети мои, и она даст вам великую радость.
Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из южной галереи к средокрестию, стоял Пэнголл; он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу.
– Преподобный отец…
– Мне сейчас некогда, Пэнголл.
– Сделайте милость!
Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пэнголл протянул загрубелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил:
– Ну, что тебе? Опять все то же?
– Они…
– До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда.
Но Пэнголл не отступал, пристально глядя на Джослина из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли, пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него был хриплый от пыли и злости.
– Позавчера они убили человека.
– Я знаю. Но послушай, сын мой…
Пэнголл покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пэнголл поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел настоятелю в лицо.
– Когда-нибудь они убьют и меня.
Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пэнголла и крепко сжал их.
– Не убьют. Никто тебя не убьет.
– Ну, так выживут отсюда.
– Никто не причинит тебе вреда. Истинно говорю тебе.
Пэнголл яростно сжал метлу. Он выпрямился. Губы его кривились.
– Преподобный отец, зачем вы это сделали?
Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.
– Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего.
Пэнголл ощерился:
– И для этого надо его разрушить?
– Остановись, пока ты не сказал лишнего.
Но Пэнголл не отступался, и в словах его прозвучал вызов:
– Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?
Он ответил ласково, как ребенку:
– Много раз. И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой.
– Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки…
– Пэнголл!
– Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?
– Успокойся, Пэнголл, успокойся.
– Зачем? Зачем?
– Ну, я слушаю.
– Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть: загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропило. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. Вы это знали?
– Нет.
– А я знаю. Мы знаем. Все это… – Он ткнул метлой в груду хлама и пыли. – Взломанный пол, яма… позвольте, я сведу вас на крышу.
– У меня есть другие дела, и у тебя тоже.
– Мне надо с вами поговорить…
– Но разве ты не говоришь со мной?
Пэнголл отступил на шаг. Он взглянул на опоры и высокие, сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.
– Преподобный отец. На крыше… у самой двери над лестницей в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело.
– Это хорошо. Ты предусмотрителен.
Пэнголл взмахнул свободной рукой.
– Пустяки. Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали…