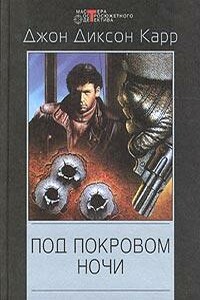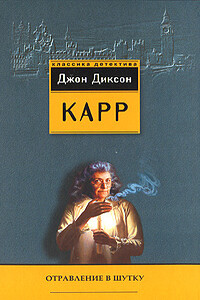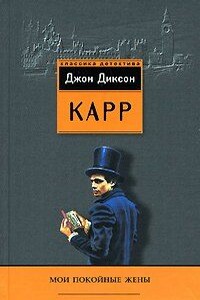Кто-то хрипло, нечеловечески охнул.
- Кто здесь?- крикнул я.
В течение напряженной секунды мы стояли, стараясь разглядеть друг друга, я слышал тяжелое частое дыхание. Потом другой человек протиснулся мимо меня, и мы оба шагнули на свет.
Это был маленький худенький человечек в цветастом шелковом халате. Коричневатая кожа, орлиный нос, на лоб беспорядочно падали густые черные волосы. Поразительно странное выражение глаз ошеломляюще желтого звериного цвета, так широко открытых, что целиком виднелись круглые белки вокруг радужки. Гипнотические глаза задыхавшегося мужчины, с неподвижным, мертво застывшим взглядом восковой куклы, как бы расширялись. Я еще больше изумился, когда он заговорил,- казалось, его губы не движутся. - Вы оставили эту чертову штуку у меня на столе?- спросил он. Резко вытянул и открыл руку. На ладони лежала крошечная, меньше дюйма, деревянная фигурка. Кажется, мужская. На голове какой-то колпак, шея свернута. Я молча смотрел на нее, по-прежнему слыша учащенное дыхание. Черная фигурка на коричневой ладони обретала какой-то чудовищный смысл. Даже не слыша акцента, я понял бы, что встретился с Низамом аль-Мульком. И пробормотал что-то вроде:
- Нет. Прошу прощения... Я живу вот в том номере. Сюда зашел по ошибке... Смуглая ладонь закрылась. Он внимательно меня разглядывал широко открытыми глазами.
- Кто-то вошел ко мне...- начал он, не договорил, сунул фигурку в карман, повернулся, исчез в арке. Я поспешил к себе. Яркий огонь пылал в спальне, в соседней комнате возился замечательный слуга Томас, раскладывая одежду. Все бредовые мысли - полнейшая чепуха. Но они не покидали меня, пока я принимал ванну и одевался. Отправившись вниз в семь часов, я вновь встретился в холле с заметно изменившимся Низамом аль-Мульком, едва с ним не столкнувшись у лифта. На лице уже не было столь же страшного выражения, как напугавшая его вещица. Он весь сиял и лоснился, одетый с вызывающей небрежной роскошью, в пальто и в цилиндре. Кончиком трости, как бы ловким выпадом шпаги, нажал кнопку вызова лифта. Я обратил внимание на безупречно белые перчатки. Умиротворенное смуглое лицо, взгляд отсутствующий, почти глупый. Он с улыбкой смотрел в шахту лифта, напевая мелодию из оперетты.
Внезапно оглянулся и обратился ко мне с мягкой гладкой английской речью:
- Слушайте... Надеюсь, вы простили мне вспышку? Я просто пошутил,- с улыбкой объяснял он, тараща глаза.- Ясно?
- Конечно. Это моя вина.
- Нет-нет-нет!- махнул он рукой.- Даже не говорите. И, пожалуйста, никому не рассказывайте, хорошо?
В выпученных глазах промелькнуло то самое, прежнее выражение. Спускаясь в лифте, он разглядывал себя в зеркале, с очень довольным видом расправлял белый галстук, продолжая мычать мелодию. В вестибюле остановился, прикуривая сигарету, а я прошел в гостиную, сел у окна в ожидании Банколена и сэра Джона.
Туман немного рассеялся, свет из окон клуба просачивался сквозь коричневатую дымку над тротуаром. Вынырнул длинный лимузин "минерва" необычного дико-зеленого цвета, подкатил к бровке тротуара. Аль-Мульк спускался по лестнице, стуча палкой по балюстраде. Гигант шофер, кажется негр, с приветственным поклоном открыл дверцу. Она захлопнулась, подфарники "минервы" стали удаляться, влившись в поток машин. До появления Банколена и сэра Джона прошло почти полчаса. Никто больше не возвращался к дневным разговорам, поэтому я не стал рассказывать про эпизод наверху. Мы выпили коктейли в уютном баре с красными шторами, со свечами, накрытыми большими перевернутыми бокалами, с огромной фарфоровой мартышкой, ухмылявшейся с каминной полки. Сэр Джон, не вынося людных мест, предпочитал обедать в клубе; я предложил быстро перекусить перед театром в ресторане на Пэлл-Мэлл, но Банколен хотел пойти к "Фраскати" на Оксфорд-стрит. Там царило сплошное золото и серебро, было полно народу. Стук, звон, выстрелы пробок, возбужденная игра оркестра в лучах прожекторов. Дым, пар, синее пламя подожженных яств, звяканье крышек; официанты, неуловимые, как домовые; сверкающие золотистые струи вина. Сэр Джон щурился, будто только что вышел из темной комнаты. От вина его впалые щеки медленно разгорались, глаза приобретали виноватое выражение. За кофе и десертом, когда все мы согрелись, он начал посмеиваться. Доверительно склонившись над столом, сыпал бессвязными шутками, сам над ними смеялся, шаловливо подмигивал, кивая, сияя.