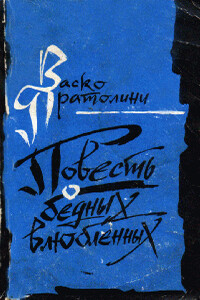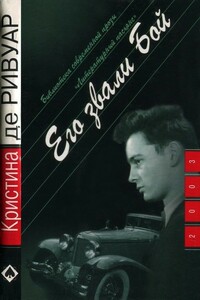– Жареная курица, салат… – сказала она, как бы желая переменить тему. – В воскресенье он придет обедать… Не так-то все просто. – Необычайная застенчивость сдерживала ее: даже в вечер ее исповеди, я не видел, чтобы она делала над собой такое усилие. – Как это ни глупо, допустим, я и Миллоски, в общем, как ты говоришь… Тебе было бы неудобно жить с нами в этой квартире, где всего две комнаты да твоя бывшая детская, что служит нам теперь кладовкой.
– Мы найдем квартиру побольше, если я вам буду мешать.
– Не в помещении дело, Бруно; жизнь есть жизнь, и все может случиться.
– Послушай, устроившись на «Гали», я смогу снять комнату где-нибудь неподалеку.
– Ну, конечно, ты бы с удовольствием жил сам по себе! А кому, кстати, ты обязан тем, что станешь скоро рабочим «Гали»? Бедный отец Бонифаций! Перед тем как умереть, он и нам помог.
Всего несколько шагов вдоль фасада церкви под коротким портиком. С той стороны – стадион, который был не для нас с Дино – так мы для себя решили, а вот Армандо, предавая нас, иногда заходил туда поиграть. И там же – огромное здание, воздвигнутое отцом Бонифацием в целях борьбы за торжество христианского милосердия, училище, в котором десятки и сотни сирот, от одной войны до другой, из поколения в поколение, получали образование и профессию. Не только самые нуждающиеся, но и такие «сироты», как Джо, которые родились после войны, являют собой результат последнего боя, выигранного отцом Бонифацием.
Время – часов семь вечера, июньский закат окрашивает новые стены и древние камни. Вон та старинная двуглавая постройка зачала в своих стенах огромную махину сиротской школы, что высится сбоку от нее. Я вхожу, поднимаюсь на несколько ступенек, и передо мной – дверь топорной работы, как в старых домах или в монастырских кельях. Я слышу голос, чуть-чуть надтреснутый, старческий, но не плаксивый, не монашеский.
– Проходи, Сантини.
Комната маленькая, она с трудом вмещает мебель, стоящую вдоль стен: застекленный книжный шкаф и громоздкий ларь. На стене изображение какого-то святого, живопись потемнела. Стол, перед ним небольшой ковер и – под стать картине – пара стульев той же эпохи, когда деды дедов были настоящими краснодеревщиками. За столом – весь скрюченный и потому кажущийся крохотным старикашка в сутане с белым воротничком. Ясные глаза за квадратными стеклами очков, эти глаза – самое существенное из того, что нужно запомнить. Проницательные, молодые, мудрые, свидетельствующие о долгих раздумьях; на висках реденькие волосы, совсем седые, пепельного цвета. Он смотрит на меня сосредоточенно, левая рука лежит на столе, в правой зажат платок, и она все время дрожит, и, чтобы это было не так заметно, локоть прижат к груди. Страдальческое выражение лица, которое подчеркивается почти безгубым, чуть слюнявым ртом и которому не соответствуют ни взгляд, ни огромные, смешно торчащие уши, ни, наконец, голос.
– Садись, Сантини. Возьми тот стул и устраивайся поближе. – Я сижу на краешке стула, и его взгляд – снизу вверх – изучает меня. – Располагайся поудобнее. Ты ведь не на аудиенции у папы. – Дрожащей рукой он подносит платок ко рту. – Так вот, Кьянконе мне кое-что говорил. – Кьянконе – это Джо, все равно его фамилия звучит для меня странно. Он как бы угадывает мои мысли. – Знаю, что для тебя он Джо, а ему нравится… Так вот перейдем к делу: на «Гали» как будто против тебя что-то имеют.
– Видно, у них есть для этого основания. – Он не внушает мне робости. Нужно только смотреть ему в глаза, а не на непрерывно дрожащую руку. – Дело в том, что, по их мнению, я коммунист.
– А разве не так?
– Так, но это не имеет значения. В моем аттестате одни четверки и пятерки, да и специальность я сдал на четыре с плюсом.
– А если они не хотят иметь бунтарей у себя на заводе? Если бы ты не любил кошек, а тебя заставили держать кошку, которая пачкала бы по всему дому, тебе было бы приятно?
– Я рабочий, а не кошка и не собака.
– Ошибаешься, у тебя и коготки есть. При таком опекуне, как у тебя, ничего нет удивительного в том, что ты коммунист.
И он думает о том же, что и старик Каммеи, что и все, знающие меня, – думает, но не высказывает.