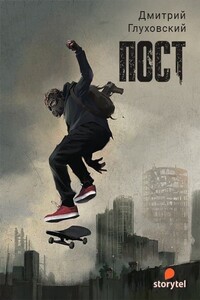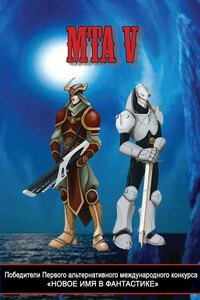— Видел! Да! И что?! Видел, слышал! И ничего — вот же ж я, стою, нормальный, с тобой разговоры разговариваю! Не, сестренка, в пизду твои гвозди!
Он замахивается, чтобы забросить гвоздики в темноту, но девчонка перехватывает его руку, отгибает пальцы с бешеной силой и забирает свои гвоздики обратно.
Лисицын кривит лицо, запахивается поплотней. Зябко тут, ветер колет.
Уезжал бравым подъесаулом — а вернуться глухим инвалидом? Тогда о Кате можно будет забыть. Она не зря ему про маршальский жезл в ранце с самого начала сообщила: такие если за лейтенанта и пойдут, то только чтобы со временем до генеральши вырасти. Списанный в запас глухарь ее достоин не будет, она в Императорском балете танцует, ей нужна партия под стать. Дай ему Бог еще от трибунала за погибших бойцов отвертеться, дай Бог, чтобы его правде в Москве поверил хоть кто-то…
Нет, братцы, возвращаться надо с острым слухом и чистой головой. Потому что против него будут те, кто его отправлял на верную смерть. И его, и до него — Сашку Кригова. Мятежники там, бунт… Какой, к херам, бунт?!
Знал Сурганов, на что его посылает? Знал.
Когда говорил — никого там не слушай, когда Кригова пристрелить предлагал — знал. Тогда почему честно не предупредил? Почему не проинструктировал, как с этой дрянью бороться?
Сурганов и виноват во всем. И те, кто там с ним еще заодно. Предал Лисицына, предал его бойцов — зачем?! Опыт, может, хотел на них поставить? Справятся они или нет с этими тварями?
Сурганов. Это таких, как он, под трибунал надо, вешать надо. Крыса штабная, костолом подвальный. Вот, сотню казачью положили. Такого ждал результата?! Доволен, мразь?!
И в том, когда детские головы у казаков с рук свисали, болтались, и остальное там, в камере, и что казаки его превратились в эту кашу, в этот улей, и что Задорожный за ним бежал со страшной харей… В этом тоже его вина. Почему нельзя было сказать, куда их отправляют?! Может, были бы все они живы!
И не распространялась бы эта зараза вокруг них. И на Москву бы не ползла за Лисицыным по пятам.
Что бы там ни было, до Москвы надо добраться как можно быстрей. Если эта… Бесовская молитва… Дойдет туда раньше… Он снова думает о Кате.
Катя на сцене Большого — склоняется за цветами, от пота мокрая насквозь, вся дрожащая от усталости и радости. Катя при свечном свете, тянущаяся губами к его губам, стонущая, невесомая… И у кремлевских стен — дерзкая, летучая, не для Лисицына Юрки созданная, но идущая с ним сквозь метель рука об руку.
Надо вернуться к ней. Надо ее от этого ада собой прикрыть.
Потом он вспоминает Задорожного: каким тот вчера уезжал из Москвы и каким стал. Лицо его, когда скакал по рельсам за дрезиной. Превратиться в такое… Лисицына передергивает. А что, если он не выдержит, что, если ему не повезет — и с ним случится то же, что со всей его сотней случилось?
Что, если его найдут потом голым, изуродованным, с перекошенной харей, с вывернутыми руками, с раскрошенными зубами? Что Кате скажут — и скажут ли что-то? Каким она его запомнит? По последнему их разговору?
А если бы она увидела его обернувшимся? Таким, каким он увидел своих бойцов?
Нет… Если погибнуть, то так, чтобы она смогла вспоминать его без омерзения.
Чтобы и после смерти она смогла его еще любить.
6
Они оторвались от погони хорошо: гнали час или больше, ехали все по порожней стране, один только раз проскочили огоньки. Когда проезжали их, девчонка обернулась на Лисицына.
— Не надо им сказать?! Остановиться, сказать им, чтобы уходили?!
Лисицын потер лоб.
— Надо в Москву. Москву надо предупредить, это главное. Москву, понимаешь?! — Он показал ей, куда они ехали.
Она поежилась, провожая глазами огоньки, но поняла.
Так он и думал, что они обогнали волну, пока на путях не возник человек. Стоял, понурившись, спиной к ним. Дрезинная фара его достала, когда до него оставалось всего-то полсотни метров. Времени было в обрез. Лисицын крикнул ему, чтобы с путей сошел, но тот ничего не отвечал. Стоял, как сомнамбула, смирно.
Они успели с девчонкой переглянуться — та замотала головой: не тормози! — человек не шелохнулся, даже когда Лисицын в воздух пальнул — и они налетели на него на полном ходу, километрах на пятидесяти. Он хрустнул слышно, сложился, отлетел — Лисицын обернулся — и вроде бы двинулся за ними следом, уже сломанный, — но было совсем темно и наверняка сказать было нельзя.