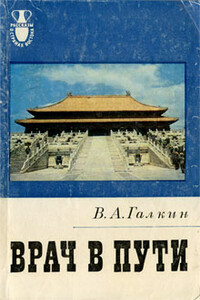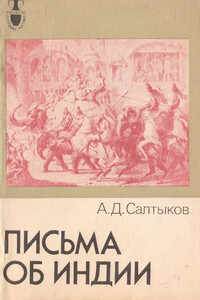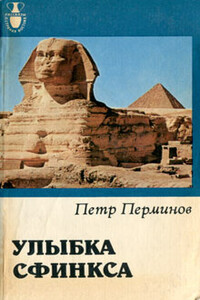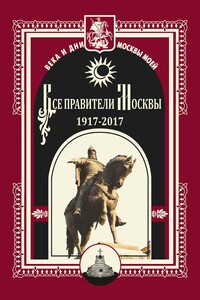В этот сентябрьский день 1980 года Стамбул был прекрасен, как 200 лет назад. Грузные купола знаменитых мечетей, обрамленных островерхими минаретами, утопали в густой зелени платанов и кипарисов. Старинные стены сераля, здания легкой, ажурной архитектуры, террасами спускающиеся с пологих склонов холма Перы, разноязыкое многоголосие вечно оживленной Галаты рождали ожидание встречи с городом, так хорошо знакомым по книгам.
Наш теплоход пристал к причалу напротив Топханы, примерно в том месте, где, если верить отцу Леонтию, Алексей Михайлович садился в каик, отправляясь на решительную встречу с великим визирем. К нашему удивлению, этот причал и сегодня, как и два века назад, носит название Касым-паша Скелеси.
Так началось наше знакомство, нет, не знакомство, а узнавание города, любовно описанного десятками русских путешественников И дипломатов. Узнавание — потому что Стамбул, как всякий древний восточный город, многослоен. Под современной, дымной, гудящей тысячью клаксонов, заплеванной, загаженной миллионами туристов оболочкой легко открываются приметы его многовековой истории.
С тех пор сколько судьба ни заносила нас в Стамбул — а случалось это не так часто, как хотелось бы, но все же нередко, — мы пытались пройти маршрутами Алексея Михайловича Обрескова.
Впрочем, не всегда это удавалось. Российское генеральное консульство находится в наши дни на улице Истикляль — деловой и торговой артерии огромного города. Оно построено в первой половине прошлого века, в эпоху Николая I. Двух старых зданий, в которых оно размещалось после пожара 1767 г., не сохранилось. Генеральный консул, показавший нам здание консульства, пояснил, что, по легенде, оно построено на земле, привезенной из России. В его просторном кабинете висели две картины кисти Айвазовского, долго жившего в Константинополе. К сожалению, ни мебели, ни картин XVIII в. в консульстве не сохранилось.
Зато загородному дому русского посольства в Буюкдере повезло больше. Он не только дошел до нас в том же виде, каким мы знаем его по гравюрам XVIII в., но и частично отреставрирован. Из города до Буюкдере минут 40 езды на автомобиле. Фасад со знакомой террасой, обрамленной двумя флигелями, выходит на Босфор. Воздух в старинном парке, примыкающем к дому, напоен ароматом липы и лавра. По асфальтированной дорожке, взбирающейся по некрутому косогору, обходим парк, как бы узнавая его по описаниям Левашова и отца Леонтия.
В султанском дворце Топ-Капе, превращенном ныне в один из лучших в мире музеев, гид подвел нас к «светлице отдохновения», где послы дожидались аудиенции у великого визиря, и показал зал заседаний Порты. Вот церковь св. Ирины, в которой сейчас размещается выставка старинных пушек, напротив — купола султанских поварен, знаменитые ворота, обрамленные круглыми островерхими башнями.
Дорога вела вдоль древних, усиленных контрфорсами и поросших плющом стен св. Софии к скверу, отделявшему праматерь православных церквей от соперничающей с ней в величественности Голубой мечети. Отсюда мы отправились в Едикуле, Семибашенный замок.
По нынешним временам до замка не более четверти часа на такси. Мы ехали по улице Ак-сарай в сторону Мраморного моря, затем автомобиль резко повернул направо. Миновали какие-то переулки и вскоре оказались возле башни, сложенной из грубо отесанного серого камня. Массивные, с зубцами по краю стены Едикуле до сих пор производят внушительное впечатление. Высокий арочный вход, ведущий во внутренний двор, запирается двустворчатой металлической дверью. С внешней стороны к стенам замка вплотную подступают дома: большинство из них деревянные, двухэтажные, чем-то напоминающие здания провинциальных русских городов.
— Четыре года назад замок был реставрирован, — сказал водитель такси. — Сейчас на его территории музей.
Впрочем, о том, что мы находились в музее, напоминали лишь входные билеты. Здесь нет ни гидов, ни пояснительных табличек.
Мы вошли в ворота, поскрипывавшие так же зловеще, как во времена Обрескова, и оказались в просторном, неправильной формы дворе, поросшем пыльной травой. Посредине — какое-то утлое сооружение, похожее на печку с круглой трубой. Перед входом — старинный платан, в тени которого стоял большой глиняный сосуд, наполненный водой. Протоптанная вдоль стены дорожка вела к главным воротам замка, которые, как мы узнали позднее, называются Золотыми. Мы остановились возле двери, ведущей в массивную центральную башню, сделанную по канонам византийской архитектуры — восьмерик на четверике. В стены ее вмурованы керамические таблички с надписями византийской эпохи.