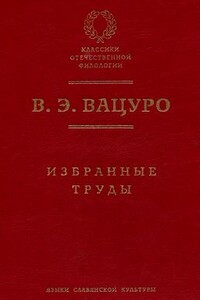Эта сцена едва ли не более всех прочих настраивает читателя на рационалистическое объяснение всего сюжета как порожденного больной фантазией ипохондрика и в то же время яснее, чем другие, показывает ограниченность такого толкования. Вторая действительность, не отделенная от реальной, но сквозящая в ней, строго мотивирована; иррациональный сюжет развивается в рациональном с неумолимой, зловещей последовательностью. Лермонтов, конечно, сознательно представляет его как крепнущую в Лугине навязчивую идею, но ведь именно благодаря этой идее Лугин превращается в трагическую фигуру, вызывающую авторское и читательское сочувствие. Фантастический мир, в котором теперь живет Лугин, фатален и страшен, но он значителен, и, конечно, более значителен, чем реальный мир светских салонов и «петербургских углов». Он составляет основное содержание лермонтовской повести, и именно поэтому мы не можем вслед за многими авторитетными исследователями считать ее произведением антиромантическим, где фантастика подлежит снятию и отрицанию. Дело обстоит прямо противоположным образом: в «Штоссе» не фантазия оборачивается реальностью, а реальность, грубая, эмпирическая, чувственно ощутимая, скрывает в себе фантастику, и в этом мы видим основное литературное задание Лермонтова. Такое толкование поддерживается, между прочим, и сюжетным построением отрывка. Дело в том, что в нем оборвана одна очень важная сюжетная линия, которая показывает нам, что «Штосс» не мыслился исключительно как повесть о художнике. Она связана с мотивом портрета.
При всей своей близости к сюжетным мотивам «Мельмота» или «Портрета» Гоголя лермонтовский «Штосс» отличается от них одной существенной особенностью как раз в трактовке «оживающего портрета». Если у Метьюрина и Гоголя портрет действительно оживает, то у Лермонтова он не оживает; более того, он не может ожить, так как не тождествен оригиналу в нынешнем его состоянии. Он изображает человека в расцвете сил — «лет сорока», «с правильными чертами, большими серыми глазами» (VI, 359). Привидение — тот же человек, но одряхлевший и опустившийся. Между ним и портретом лежит целый этап биографии. Это биография игрока, — профессионального и, быть может, не чуждого шулерства. Пальцы, унизанные перстнями, табакерка «необыкновенной величины», изображенные на портрете, — аксессуары игрока; тяжелая табакерка с двойным дном использовалась в «игре наверняка»[49]. Один из игроков в «Маскараде» — Трущов — появляется с табакеркой (V, 280). На детали костюма, по которым безошибочно узнается игрок, Лермонтов обращал внимание в «Герое нашего времени» (VI, 265).
Итак, в повести фиксированы два момента в истории старика. Один обозначен портретом, на котором вместо имени художника написано «середа». Второй застает Лугин, — и первая встреча с призрачным стариком, когда художник впервые играет в штосс на его дочь, также происходит в среду. Вообще старик играет только в среду; требование ежедневной игры создает ему какие-то неудобства. Между первым и вторым моментами — временной разрыв, лакуна; она была заполнена событиями, очевидно содержавшими некую мотивировку сложившейся ситуации.
Мотивировка проясняется пунктом плана: «Старик проиграл дочь, чтобы ». В этой записи обычно видят указание на неосуществленное продолжение «Штосса». Но она обозначает, конечно, не продолжение, а предысторию, Vorgeschichte. Преступление, совершенное при жизни, повлекло за собою посмертное заклятие, наказание. Такого рода мотив был центральным в целой группе так называемых «романов о разрешении» («Erlosungroman»), построенных как история блужданий духа в поисках некоей определенной заранее ситуации, в которой он получает «разрешение» и освобождение от проклятия. Элементы этой типологической схемы есть и в «Мельмоте», и в хорошо известных русской литературе романах Шписса (в том числе и в переведенных Жуковским «Двенадцати спящих девах»), и в «Майорате» Гофмана, и в том же «Портрете» Гоголя и т. д.; можно с полным правом сказать, что она вообще принадлежит к числу наиболее популярных в мировой литературе. Без нее не обошелся и Одоевский: намек на нее есть в «Саламандре». Одним из вариантов заклятия, лежащего на преступном духе, является форма его посмертной жизни: он вынужден в качестве призрака периодически повторять сцену своего преступления — как правило, в том самом месте и в то самое время, когда оно было совершено.