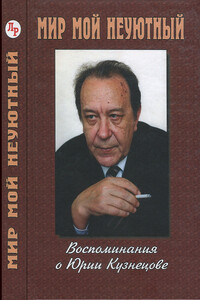Зиновий Петрович отметил мужество шлюпочной команды перед «фронтом» всего экипажа. Легкие повреждения деревянной обшивки подводной части «Крейсера», давшего свое имя вновь открытой банке в заливе Америка, были сравнительно быстро исправлены в плавучем доке. Клипер, завершив стрельбы и съемку берегов, принял участие в походе эскадры.
В Петропавловске Зиновий Петрович, между прочим, удивил всех тем, что под своей машиной вошел на «Крейсере» во внутреннюю гавань, где раньше никогда не бывал, а другие командиры не решались входить туда без помощи шлюпок.
Записки бывшего под командой Зиновия Петровича офицера позволяют судить о том, каким он представлялся в качестве командира корабля[26]. Автор записок считает главными свойствами «идеального начальника» умение похвалить и поощрить подчиненного, «когда он заслуживает, и разнести в свое время за то, за что следует». Таковым и был З. П. Рожественский. «Всегда спокойный и хладнокровный в минуты опасные, он нередко разносил, когда замечал непорядок, и «штормовал», как мы называли, иногда даже во время штиля.
Надо при этом сказать, что штиль на клипере, имевшем главный двигатель — паруса, не мог не отзываться на энергичной натуре и характере нашего капитана, не выносившего бездействия и даже штилевания нашего судна под парусами. Стояние на месте нашего клипера часто выводило командира из себя. Зато он был «в своей тарелке» и в отличном расположении духа во время кипучей работы всего экипажа… Наш капитан, энергичный от природы, имел очень верный морской глаз и главное — огромную уверенность в себе, чем много раз вызывал наше удивление…»
Вот как З. П. Рожественский встретил и поощрил команду посланной им из залива Америка шлюпки. «Когда я (лейтенант Д. Н. — В. Г.) вышел на палубу, сам командир меня встретил на шканцах у трапа, обнял, 3 раза поцеловал и крепко пожал мою руку. Это была высокая милость ко мне командира. Затем он вызвал команду во фронт, вывел вперед команду шестерки и, обращаясь к прочей команде, сказал: «Вот, ребята, пример вам, как надо служить!» Это было для нас, разумеется, лучшею наградой за все то, что мы перетерпели за истекшие 36 часов».
К этому следует добавить, что командир шлюпки по представлению З. П. Рожественского получил «вне очереди» орден Св. Анны 3–й степени, а старшину шлюпки командир «Крейсера» своим приказом произвел в унтер–офицеры.
Плавание клипера «Крейсер» в тихоокеанских водах подходило к концу: балтийские крейсера в очередной раз заменялись своими собратьями из Кронштадта 21 октября 1890 г. «Крейсер» покидал Владивосток[27]. В воду Золотого Рога по традиции полетели старые офицерские фуражки, команда стояла во фронте, отдавая почести остающемуся на рейде флагманскому «Адмиралу Нахимову». Путь «Крейсера» лежал в Гонконг (где уже был вышедший ранее «Адмирал Корнилов») и далее через Суэцкий канал — «в Россию». По дороге корабль посетил Сингапур, Коломбо, Суэц, Порт–Саид, Кадис, Шербург, Копенгаген.
27 мая 1891 г. З. П. Рожественский на Неве в Санкт–Петербурге представил свой клипер императору Александру III и удостоился монаршего благоволения, а спустя четыре дня «Крейсер» окончил кампанию. Зиновий Петрович командовал своим первым кораблем 345 дней. Большие переходы «Крейсер» одолевал в основном под парусами, развивая, как вспоминали его офицеры, до 14 уз. «…Парусное плавание приучало всех… вдумываться в детали каждого дела, до мелочей, так как от этих мелочей зависит нередко многое, а иногда даже и все…»
В августе З. П. Рожественский был отчислен от командования клипером (интересно, что его преемником был капитан 2–го ранга Н. И. Небогатое) с назначением командиром новой броненосной канонерской лодки «Грозящий». Это был корабль не больше «Крейсера», но с 127–мм. броневым поясом и сравнительно сильным вооружением (229–мм. и 152–мм. орудия). Месяц Зиновий Петрович провел на своем корабле в плавании на Балтике, окончив короткую кампанию 8 сентября в Кронштадте. Между тем Главный морской штаб готовил ему почетное и редкое по тем времен назначение.
Должность морского агента (в современном понимании — военно–морского атташе) в Российском флоте второй половины XIX в. была редка, престижна и достаточно обеспечена в материальном отношении. Редка, потому что экономное правительство (не забывая о себе) держало морских агентов только в тех странах, которые имели сравнительно мощные флоты или находились в сфере непосредственных интересов России. Так, российские морские агенты состояли при посольствах в Великобритании, Франции, Германии, Североамериканских Соединенных Штатах, Османской империи, Австро–Венгрии и Италии (один человек на две страны). В Японию морской агент был направлен только после Японско–китайской войны 1894–1895 гг.
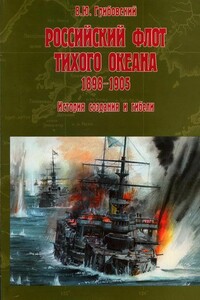

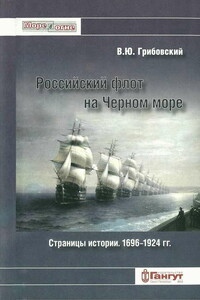

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)