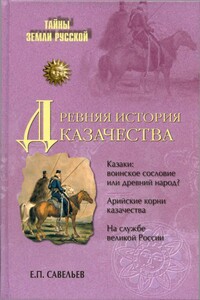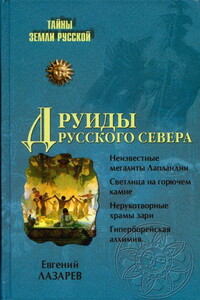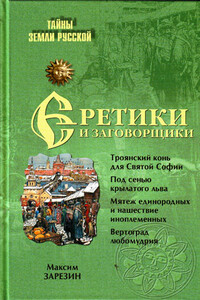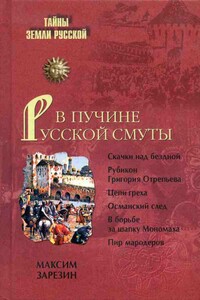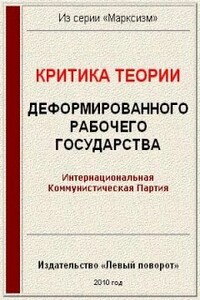Болезненная щепетильность Ивана ярко проявляется в вопросе о традиционном обращении к коллеге-монарху как к «брату». Датскому королю Фредерику II, явно по царскому наущению, русские послы выговаривают за то, что тот по сложившейся традиции поименовал Ивана «братом своим». По этому же поводу Иван укоряет Сигизмунда II Августа, который провинился в том, что назвал «братом» шведского короля, хотя род Ваза происходит от водовоза. Когда к Грозному попала грамота «индейской земли государя», он оказался в затруднительном положении, так как московский царь не знал, «государь ли он, или простой урядник», и можно ли его называть его братом.
Как подросток, который тщится утвердить свое превосходство, выискивая и жестоко высмеивая внешние недостатки своих сверстников, Иван дотошно копается в биографиях своих коронованных коллег, расследует происхождение их власти и границы их полномочий, чтобы, отыскав там изъяны, торжественно выставить их напоказ. Из всех государей, с которыми Москва имела сношения, пожалуй, только Максимилиан II, благодаря императорскому титулу избежал злых насмешек и назойливых поучений беспокойного московского государя. Остальным не повезло. Сигизмунду II Августу досталось за то, что он «посаженый государь, а не вотчинный». Его преемнику Стефану Баторию Иван также указывал на то, что он как бы неполноценный государь, избранный по «много мятежному человеческому хотению».
Заносчивые упреки Грозного в равной степени адресованы и врагам, и союзникам. На его пренебрежительное отношение к иностранным властителям не влияют подобные пустяки. Царю безразлично, как скажется его заносчивость на отношениях России с зарубежьем, тон его посланий не меняется в зависимости от того, кружит ли ему голову успех или он терпит поражения. Вряд ли стоит находить в переписке Ивана с европейскими монархами «кошмар парламентаризма», как отмечают одни исследователи, или видеть в них торжество «националистического самовозвеличивания», как это делает П. Н. Милюков. Отношения Ивана с иностранными государями скорее всего вообще не имеют отношения к внешней политике, для него это излюбленный способ самоутверждения. Так и Прибалтика для Ивана не сфера национальных интересов, а в первую очередь трибуна, с которой он общается не с каждым государем по отдельности, а уже со всей Европой, только здесь он достигает цели не язвительными упреками и наставлениями, а рейдами легкоконных отрядов и канонадой тяжелых орудий.
Возвращаясь к коллизии «Крым или Ливония», отметим, что современные исследователи (Р. Г. Скрыников, Б. Н. Флоря, С. О. Шмидт) в отличие от историков старшего поколения сходятся в том, что разногласий по поводу того, воевать или нет с Орденом, в правящей элите не возникало. Сегодня очевидно, что и Костомаров, и Платонов впадали в крайности: Адашев и Сильвестр не противились войне с Ливонией и не планировали довести кампанию на юге до окончательной победы над ханством или оккупации полуострова. Однако современные исследователи, похоже, совершают другую ошибку, игнорируя не только давний заочный спор знаменитых предшественников, но и ожесточенную полемику между Курбским и Грозным по поводу «поворота на Германы». О чем же тогда так страстно спорили московский царь и беглый боярин, возвращаясь к событиям 1559 года в своей знаменитой переписке?

Заметим, что война с Орденом становится тем первым важным государственным делом, которым Иван пожелал заниматься самостоятельно, в котором решающее слово оставалось за ним. Грозный горячо верит в блестящую перспективу громкой победы, он неоднократно торопит князя Петра Шуйского с выступлением в поход, очевидно, сам Иван настаивает на эскалации боевых действий, на проникающих рейдах в глубь ливонской территории. «Вспомни, — призывает несколько лет спустя Иван князя Курбского, — когда началась война с германцами, и мы посылали своего слугу царя Шигалея и своего боярина и воеводу Михаила Васильевича Глинского с товарищами воевать против германцев, то сколько мы услышали тогда укоризненных слов от попа Сильвестра, от Алексея и от вас — не стоит подробно и рассказывать!»[821]