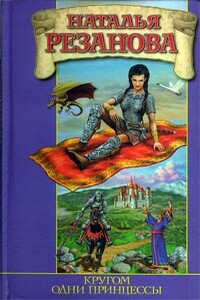ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«СЧАСТЛИВ ТВОЙ БОГ, РОБЕРТИН»
Видишь, сколько ты зла наделать можешь?
Ты и честен, и добр, и чист, но страшен.
Марк Валерий Марциал
Были у него когда-то старший брат и лучший друг. И он любил их больше всего на свете.
И не было теперь в мире людей, которых бы он сильнее ненавидел.
Как это получилось? Какой дьявольский поток подхватил их жизни, прибив к разным берегам? На это он не мог ответить. Одно он знал твердо – он этого не хотел. Он любил их всей душой, всем сердцем, совершенно искренне. Так же, как теперь ненавидел. И самое худшее – он не смел ни с кем поделиться этой ненавистью. Не имел права. Ибо был прощен, пощажен и помилован. Другие поплатились жизнью, а его просто выпроводили с напутствием: «Счастлив твой Бог, Робертин». Как нашкодившего щенка. Словно он не был повинен в соучастии в покушении на преступление, равно противное Богу и людям. Цареубийстве и братоубийстве.
Эд не пожелал его видеть тогда. Конечно, он и без того знал все. Аола наверняка рассказала… перед смертью. Иногда ему приходила мысль – может быть, Эд потому и убил ее, чтобы никто больше не узнал, насколько глубоко погряз в заговоре его младший брат. И тут же отгонял эту мысль, как не имеющую ни малейших оснований. Эд убил Аолу из злобы, из мстительности, потому, что ему нравилось убивать. Он – зверь, чудовище. Но даже звери, говорят, признают родство. Вот он и признал. Не убил. А как он хотел тогда умереть!
Нет. Он говорил себе так, но в глубине души Роберт знал – это неправда. Ничего он тогда не хотел. Страх и потрясение убили в нем все желания и парализовали волю. Он не сделал ни попытки спасти Аолу, ни открыто противостоять брату. Он тихо убрался в Париж и пребывал там в некоем оцепенении около трех месяцев. И понадобилось известие о новой женитьбе брата и о том, кто стала новой королевой, чтобы его из этого состояния вывести. Разумеется, к тому времени он уже знал, кем на самом деле является Озрик-Оборотень – канцлер Фульк озаботился его просветить. И, поскольку они не виделись около двух лет, за всеми своими переживаниями успел забыть о существовании этого… существа. И вот – явление из небытия. И тогда родилась эта ненависть, жуткая, темная, неизбывная.
Но страх не умер.
Первое время он ждал, что Эд переменит свое решение и каждый день предполагал приказ явиться в Компендий либо просто появление королевской дружины под стенами Парижа. Но ничего не происходило. Однако в любое мгновение могло произойти. И он жил, тая ненависть и страх, взращивая их в одиночестве. Вызывавший насмешки своей трусостью и страстью и интригам Фульк оказался храбрее его, развязав открытую гражданскую войну. А Роберт сидел в своем городе Париже и, обнажая воспоминания, как больной сдирает корку со струпа, затянувшего рану, постоянно возвращался к вопросу: как это получилось? Как получилось, что еще до встречи он связал воедино в своем сознании этих двоих – брата Эда, истинного героя, непобедимого воина, несправедливо лишенного прав, изгнанного и оклеветанного, и школяра Озрика, слабосильного подростка, травимого и обижаемого, но такого умного, образованного и великодушного? Какое такое сходство ему померещилось в их судьбах? А может, и не видел он никакого сходства. Просто он их любил и хотел видеть обоих рядом с собой. И это сбылось – чудесным, как ему мнилось тогда, образом – на будущий год. Тогда колесо судьбы каждого из них круто шло вверх. Эд уже не был изгоем, но графом Парижским, Озрика никто бы не посмел обижать – он теперь сам кого угодно мог обидеть, а главное – в жизнь Роберта уже прочно и непоправимо вошла Аола, но он не думал, что это обстоятельство повлияет на его привязанность к брату и другу. Он ошибался. Неожиданно он сделал для себя открытие – при всех своих достоинствах эти двое не способны любить. Ни Эд, скоро и споро сколачивающий под носом у разини-императора собственную державу и не брезгающий ради этого никакими средствами, ни Озрик, деливший все свое время между воинским плацем и библиотекой, и, кажется, делавший при дворе Эда завидную карьеру, – что они могли понять в любви, нежности, душевных метаниях, поэзии, наконец? Озрик, например, одолевший чертову уйму латинских и греческих поэм, сам, по собственному признанию, и пары строчек в рифму не сложил. А у него тогда стихи изливались из сердца. Нет, эти двое не могли его понять. И он ощутил некое над ними превосходство.