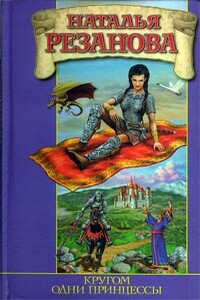Его самого.
– Значит, они знали. Кто еще знал?
– Многие, – она махнула рукой. – Почитай, что все, кроме тебя. Ты один ничего не знал.
– Это не совсем так, – медленно сказал он.
– Что? – она невольно дернулась, усилием рассудка принуждая себя к спокойствию.
– Я не то чтобы не знал. Я… не хотел знать. Отказывался знать. У меня была груда доносов на тебя… с первого же дня твоего пребывания в Париже. И… некоторые из них я даже проверял. Но не хотел верить.
– Почему?
– Потому что до тебя… до Озрика… у меня не было друзей. Дружки были. Сообщники. Собутыльники. Друга – не было. И я не хотел отказываться от единственного друга.
У нее перехватило горло. И это его она когда-то жалела за наивность! За прошедшие годы ей казалось, что душа Эда перед ней все равно что раскрытая книга, а сейчас в ней раскрывались такие провалы, о которых она понятия не имела. Чтобы скрыть замешательство, она попробовала свести все к шутке.
– «Единственный друг»! Что же ты тогда, после взятия Самура, всю нашу компанию уволок за собой – всех, даже Иова, бедолагу, упокой, Господи, его душу, кроме меня!
– Это просто, – тут же ответил он, – я все время ждал, что ты меня об этом попросишь. Все ведь просили. Все! Кроме тебя. А я ведь уже дважды обращался к тебе с просьбой в те дни – просил, не приказывал – сначала оставить Фортуната, а потом пойти в тыл к норманнам. Просить тебя в третий раз мне не позволяла гордость. И я подумал, что ты предпочитаешь вернуться к Фортунату. И потом, весной ты все равно приехала ко мне в Париж. Что изменилось бы от того, что ты присоединилась бы к нам на полгода раньше?
– Все, – сказала она. – Или ничего…
Взгляд ее снова потемнел, и она снова замкнулась в себе, как человек, полностью поглощенный борьбой с каким-то жестоким воспоминанием.
По-своему истолковав это, он продолжал: – Я знаю, о чем ты думаешь. В конце концов я все же отказался от Озрика. Если называть вещь своими именами, я просто выгнал тебя с этой почетной отставкой. Но, видишь ли, к тому времени я уже стал королем. А у королей друзей быть не может. И тут, Оборотень, твое «превращение» оказалось как нельзя более кстати. Потому что, если друзей у короля нет и быть не может, жена у него не только может, но и должна быть!
Она не сразу ответила. Ей было не по себе. И смущали ее не собственно рассуждения Эда, а сама его способность логически мыслить, которой она раньше за ним никогда не замечала. А может, ее и не было, способности этой?
Она кивнула и положила свою ладонь поверх его руки. Тихо заметила:
– Иногда ты меня удивляешь.
– Ты меня любишь? – спросил он.
Фортунат уже и не чаял дождаться визита своего духовного сына, после того, как в последний раз вынужден был сам искать его. Впрочем, Эд пришел с той же целью – поговорить об Азарике.
– Ты все еще опасаешься покушений?
– Нет. Похоже, я все предусмотрел.
– Так что же тебя беспокоит?
– С чего ты взял, будто меня что-то беспокоит? Хотя… да. Знаешь, нет на свете более несхожих людей, чем она и я – ни в чем. Но иногда она смотрит, как я, смеется, как я, говорит, как я…
Старик печально улыбнулся.
– А чего ты ждал? В течение трех лет именно ты лепил ее душу. И мне остается только благодарить Господа за то, что у нее хватило сил не стать твоим отражением.
Эд обдумал услышанное. Ухмыльнулся.
– Да, двоих таких, как я, мир бы точно не выдержал!
– А мне казалось, что ты сумел совладать со своей гордыней. Или просто на время забыл о ней.
– Может быть… Гордыня… Что бы вы, кроткие, делали без нас, гордых? Когда-то ты сам толкнул меня на службу Нейстрии, иначе я, возможно, до сих пор разбойничал бы в Туронском лесу.
– Как давно… – пробормотал Фортунат. – Три года… а кажется, не одно поколение миновало. Как мы все изменились…
– Ты-то не изменился ничуть. И я этому рад. Но в одном ты прав – и изменились, и научились многому. Например, что дела государства должны вершить воины, а не попы, как это пытался делать Гугон, гори огнем в аду его проклятая душа!
– Ты богохульствуешь, сын мой.
– Должен понять – мало добра я видел от святой матери нашей церкви. Один Фульк чего стоит! А Балдуин? Перечислять – пальцев на обеих руках не хватит. Только ты и Гоцеллин примиряли меня с церковью, да много ли таких, как вы!