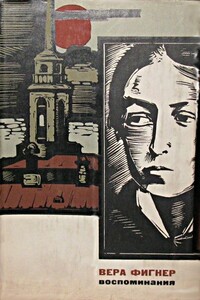Мои политико-экономические соображения нисколько не удовлетворяли бойкого просителя, и внутренне, по человечеству, с точки зрения простой филантропии, я была согласна с ним. Действительно, какое ему дело до политической экономии, до общественной точки зрения? Он тонет или уже потонул… и судит не с точки зрения политико-эконома, а с точки зрения человека, который уже на дне, и все-таки хочет жить, имеет право на жизнь.
В конце концов, совершенно измучив меня своей настойчивостью, парень уходит возмущенный, негодуя на людскую несправедливость вообще и на мою в частности.
И, как я ни утомлена и ни хотела бы посидеть одна в полном покое, из передней уже подвигается древняя старуха с посошком. Она вспоминает мою мать, вздыхает, поминая ее добром и вытирая концом головного платка старческие слезящиеся глаза… и, после многих блужданий вокруг да около, слезно просит денег на избенку. Она — лишняя в семье, которая ее приютила; пока у нее было что отдавать, за ней ухаживали, ее холили; потом — терпели, а теперь она слышит только попреки и ругань… «Хотела бы умереть, да бог не прибирает»… «Келью выстроить» — вот ее мечта, пока бог не смилуется. Спокойно дожить век после трудовой тусклой жизни — вот чего она желала бы…
Ничего не поделаешь! Я не могу «ублаготворить» эту деревенскую бабусю, не могу дать ей «спокой»… Я могу только отказать ей со всякими, более или менее сладкими, оговорками.
— Ну, бог простит, — кончает она нашу беседу, оставляя меня в унынии.
Едва я ухожу в спальню и в изнеможении опускаюсь на кровать, как слышу под окном шорох, сначала робкий, а потом все сильнее. Через несколько минут куст под окном трещит, и лицо, на котором написано любопытство, заглядывает ко мне в комнату. Когда я спрашиваю: что такое, — оказываются новые просители. Я подымаюсь и выхожу, кислая.
На этот раз целая ватага баб, и у каждой своя докука: кому надо избу выстроить, кому избу крышей крыть, а у иной печь развалилась… Просят на корову, потому что без молока детям беда… Просят на телку, в ожидании, что в свое время она коровой станет. Кто просит на овцу: последнюю по осени продали… придет зима — без валенок дети останутся: ни клочка шерсти в доме нет… Всем нужно, нужно весьма существенное, необходимое… Но всем приходится говорить одно и то же: деньги даны на хлеб голодающим, а не на коров, не на телок, не на овец. Бабы недоумевают; они сомневаются: почему на хлеб деньги есть, а на телушку, на овцу — нет. Такие надежды были, — и уйти с пустыми руками… Бабы удаляются, чувствуя себя, как старуха, обманутая золотой рыбкой в сказке.
К вечеру новый прилив посетителей: приходит уже сельский староста, волосатый мужчина лет 45, неграмотный, и, не умея объяснить, какого рода недоимка числится за обществом — в земство ли или в земельный банк, просит 25 рублей… Иначе становой приступит, дескать, к описи.
Сколько ни толкуем, не можем выбраться из какой-то путаницы, в которой разбираю только, что недоимка старая, и будто становой покрыл ее из своего кармана, а теперь настоятельно требует уплаты.
Я разъясняю, что уплата недоимок не входит в намерение жертвователей; что деньги собраны на хлеб насущный, чтоб люди не болели, не умирали с голоду.
Побившись в этом словопрении достаточно, я предлагаю такую комбинацию. Я слышала, что у управляющего есть работа — вырыть канаву, чтоб осушить болотистое место между барским садом старой усадьбы и рядком деревенских изб. Не хотят ли крестьяне сделать эту работу? Это дало бы возможность уплатить недоимку и вместе с тем оздоровило бы деревню.
Ладно! Староста поговорит с «обчеством».
Но через несколько дней все это оказывается лишним: крестьяне не хотят канаву рыть. Почему? Никто мне объяснить не может или, скорее, не хочет.
За старостой идет татарин. Жалкая, старческая фигура, бледное лицо все в морщинках и почти без всякой растительности.
По-русски говорит очень плохо, а понимает русскую речь, пожалуй, еще хуже. Он просит отпустить ему ржи или муки; говорит, что дома ни зерна не осталось; пришел из соседней татарской деревушки, верстах в двух от нас.