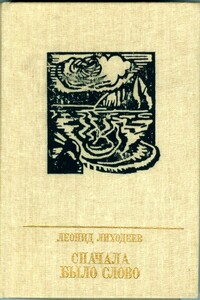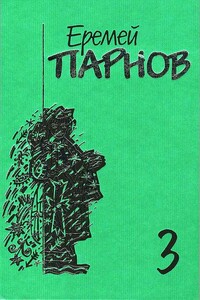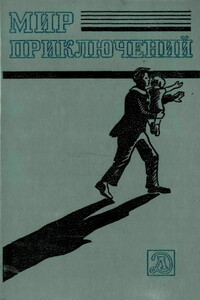— Нет, Алексей Максимович, не смущает. Важно содержание, которое мы вкладываем в те или иные слова. Новый романтизм, очевидно, так же противоположен шиллеровскому порыву, как и нарочито приземленному натурализму.
— Не перестаю поражаться зоркости вашего понимания. — Горький расчувствовался настолько, что готов был обнять Плиекшана, но мешала природная сдержанность латышского поэта, которую Алексей Максимович принял даже за некоторую чопорность. — Не перестаю, — повторил он, гася порыв. — Рабочий люд начинает смотреть на себя как на хозяина мира, освободителя человечества. Это дерзость воли и разума.
— Знамение века, Алексей Максимович. Само время ныне стало великим. Пусть его бег все еще ощущается как тяжелый удушливый гнет, но воздух, как верно сказала Мария Федоровна, уже до предела насыщен электричеством. Пролетариат действительно осознал себя историческим классом. Да что там говорить: царизм стал тесен даже капиталисту. И это лишь усиливает ярость безнадежно больной, но еще могучей монархии. Вы спросите — зачем я об этом заговорил?
— Не спрошу, — покачал головой Горький. — Предчувствую, что объясните.
— В наш век далеко не достаточно привычной полярности: свет — тьма, ночь — день, свобода — рабство. Вот почему многие современные художники вместо живых полнокровных людей создают, говоря словами Маркса, ходячие «рупоры духа времени». Грядущий романтический персонаж, Мария Федоровна, должен все-таки говорить языком Вильяма Шекспира. Как вы полагаете?
— Могу только сказать, что актеру всегда приятнее играть роль полнокровного человека, а не ходульного выразителя правильных идей. — Андреева взяла с канапе меховую муфту, чтобы согреть руки. — А зритель, по-моему, примет и Шейлока, и Карла Моора. Лишь бы с душой было сыграно, с полной самоотдачей.
— Зрителя воспитывать надо. — Горький набросил на нее шубку. — Совсем холодно стало. — Он прошелся во комнате. — Хорошо еще, что из окон не дует.
— Вы бы тоже оделись, Алексей Максимович, — предложил Плиекшан, который так и остался в пальто, лишь снял шляпу.
— Мне хоть бы что! — Горький довольно махнул рукой. — Я ко всему привычен. Воспитывать! — Он вернулся к оставленной мысли. — Это сегодня он предпочитает всему балаган, а завтра, глядишь, сам потребует Гамлета, принца Датского… Как же я любил ярмарочные представления! — мечтательно зажмурился он. — Нет, не скоро отойдет народ от балагана.
— А может, и не надо, Алексей Максимович? — с улыбкой спросил Плиекшан. — Многие просто недооценивают благороднейшую роль самой примитивной сатиры. Ведь в ней душа народа, его стихийное чувство справедливости. Сатирой больших целей можно достичь. Без нее я просто не мыслю поэзии. Мой поворот в эту сторону совершился почти бессознательно. Вероятно, это идет от наших латышских, литовских и белорусских народных песен.
— По-видимому, то, что творится теперь, — Горький живее закружил вокруг стола, — более значительно и важно, чем мы думаем. Порой мы не замечаем, что стоим в начале нового исторического процесса. Из кровавой пены всемирных подлостей рождается некий синтез или намек на синтез в будущем. — Торжественно простер руки и почти молитвенно прошептал: — Красота! Свобода и красота! Все живое тянется к красоте.
— К солнцу можно тянуться по-разному, Алексей Максимович. Как подсолнух, поворачивающий вслед за светилом золотой венчик, и как бунтарь, рвущийся из подземелий. Протест против обыденности — это уже первый шаг к красоте. И пробуждается жажда новых святынь.
Плиекшан поймал себя на том, что высказал слова Аспазии. «Впрочем, что же здесь удивительного?» — мысленно улыбнулся он.
— Вот и я так чувствую. У вас артистическая душа. — Андреева медленно обвела Плиекшана взглядом. — Вы так похожи на одного моего знакомого…
— Это бывает… — Он прислушался к шороху лоз за ставнями. — Ветер… Я где-то читал, что на каждые двести тысяч человек встречается двое одинаковых. Ваш знакомый латыш?
— Из Жемайтии.
— Древнее сердце Литвы! Знаю и люблю этот край. А я, Марья Федоровна, родился в Латгалии в одном из семи дворов Таденавской усадьбы Варславаны.