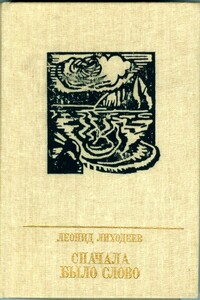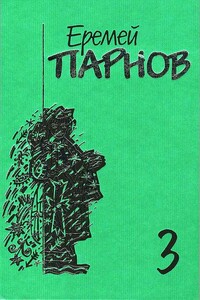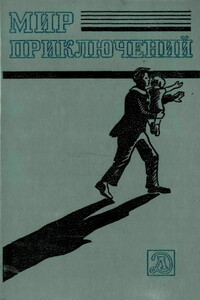— Да чем же она такая скверная? — Сторожев через силу улыбнулся. — Если Юнию Сергеевичу угодно делать из мухи слона… — Он пожал плечами.
— Дело не в Волкове и, как вы сами хорошо понимаете, даже не в Плиекшане. Беда в том, что мы по горло увязли в эпистолярной трясине. Императорская канцелярия, министерство, департамент, правление — все завалены письмами и петициями касательно стихов Райниса. Доколе? Я вас спрашиваю, доколе?
— Райнис не виноват, что чуть ли не каждое его стихотворение вызывает бурю доносов и вообще всяческих инсинуаций.
— Охотно верю. Возможно, он и не виноват. А кто? Знаете, кто виноват?
— Я, надо полагать, ваше превосходительство? — поигрывая часовой цепочкой с брелоками, усмехнулся Сторожев.
— И вы, но в первую голову я. Все ведь с меня спросится. Господам министрам в Петербурге легко высказывать свою либеральность. Не поинтересовавшись даже местными условиями, они спихнули нам этот камень и тут же забыли о нем. А кому кашу расхлебывать? Губернатору? Конечно, я должен обеспечить порядок, а как, какими средствами — это никого не интересует. Добро бы еще одни «фоны», от которых покоя нет, так, на тебе, вмешиваются эти господа из «Мамули». Я завидую другим губернаторам, у которых, кроме рабочих и студентов, нет никаких забот!
— Вы приуменьшаете трудности ваших коллег и явно преувеличиваете роль «Рижского латышского общества». У «Мамули» старческий сениум, ваше превосходительство, ей в могилку пора.
— Это вы так думаете, а в Петербурге…
— В Петербурге вообще ничего не думают. Там только пишут. Они нам — входящее, мы им — исходящее.
— Эк у вас просто!
— Мой дядюшка, гофмаршал, — Сторожев перешел на доверительный тон, — как-то рассказывал, что после князя Щербатова, в бытность его московским губернатором, в столе нашли кипу нераспечатанных циркуляров. И ведь ничего! Земля не разверзлась.
— Слыхал я этот анекдотец! — Пашков заметно успокоился и повеселел. — Вашему бы князеньке господина Вейнберга! Он бы тогда запел.
— Вся беда в том, что мы однажды позволили впутать себя в чисто литературную склоку, теперь нам и хода назад нет. Приходится изворачиваться, как карась на сковородке.
— Что вы имеете в виду?
— Господина Прозоровского, который производил расследование, просто-напросто обвели вокруг пальца. В самом деле, ваше превосходительство, опасность общества и роль в нем редактора Плиекшана оказались сильно преувеличенными. Прозоровский даже в протоколах не сумел скрыть, что не делает различий между словом реализм и словом социализм! Это было бы смешно, когда бы не было столь грустно. Жандармское управление и суд выступают арбитрами в литературном споре. Каково?
— Не будем ворошить прошлое.
— То есть как это не будем, когда в нем все корни нынешних осложнений, когда оно продолжает муссироваться снова и снова? — Сторожев демонстративно щелкнул по делу. — Я с самого начала предложил вам разграничить политическое прошлое Плиекшана от настоящего поэта Райниса. В конце концов, отбыл он наказание или нет? Государь император простил Плиекшана, по крайней мере вернул его на родину. Чего же боле? Алексей Александрович Лопухин тоже ничего против него не имеет. Насколько я компетентен судить, департамент полностью полагается на вас, ваше превосходительство.
— Посмотрим, как они отреагируют, когда получится петиция от латышских деятелей.
— Однажды эти деятели уже посадили Плиекшана, но, как видите, спокойнее не стало. Вместо будирующих статей он сочиняет стихи. Выслать его вновь мы не можем — нет никаких законных оснований. Политической деятельностью и агитацией поднадзорный, кажется, не занимается? Что же, запретить Райнису печататься? Ради бога, господа! Мы здесь совершенно ни при чем! Это прерогатива Управления по делам печати. Туда благоволите и адресоваться.
— В вас погибает великий адвокат, Серж. Почище господина Плевако.
— Все же я правовед, ваше превосходительство. Но шутки шутками, а наша позиция представляется мне неуязвимой. Больше того! Господам в Петербурге, я имею в виду известные нам круги, будет небесполезно узнать, что жандармерия, пойдя на поводу у твердолобых националистов и прямых пособников немецкой партии, разгромила в лице «Нового течения» как раз ту часть латышской интеллигенции, которая декларативно взывала к великим традициям русской культуры. Пикантно, не правда ли? Исключительно разумная политика.