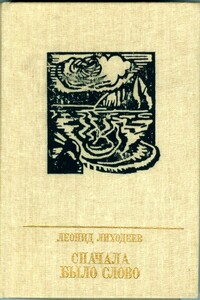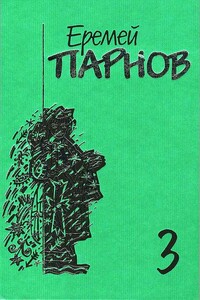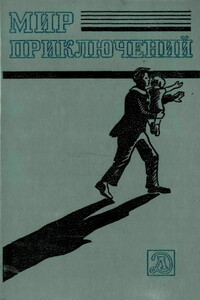Они вошли в море и, с трудом отрывая подошвы от зыбкого дна, побрели к лодке. Когда зашли по колено, вода начала отчетливо обжимать тонкую резину сапог.
Фрицис Дамба протянул Плиекшану руку и помог забраться на борт. Когда все разместились, он выбрал якорь и сильно оттолкнулся веслом, направляя лодку наперерез волне. Екаб уже ставил парус.
Сначала пошли в открытое море, а когда берег окончательно растворился во мгле, повернули к устью реки и поплыли под углом к ветру.
Екаб сел рядом с Плиекшаном и, не выпуская шкота из рук, спросил:
— Слыхали, товарищ Райнис, опять немца пожгли в Талсинском уезде. Сначала Фитингофа, потом этого Остен-Сакена. Скоро ни одного вороньего гнезда не останется.
— Кто поджег? Батраки?
— Известное дело. Кому же еще? Барон своего пастора вздумал посадить, а народ воспротивился. Не захотел! Кому нужен пастор, который и двух слов по-латышски связать не может? Значит, послали к барону делегатов сказать, что приход не согласный и хочет латыша, несколько имен подходящих назвали, а тот уперся и ни за что. «Я, говорит, не спрашиваю своих овец, какую они желают овчарку». Так и ушли ни с чем. А после, само собой, запылало. Все хозяйство спалили подчистую и замок, конечно.
— Вы слышали, Ян? — Плиекшан обернулся к сидящему на корме Изаксу. — Вот вам и особые условия!
— Верно говорю, товарищи, — громче, чтобы перекричать ветер, захрипел Екаб. — Пока в городе раскачаются, батраки все замки пожгут.
— Ты это брось! — подал голос скрытый парусом Фрицис. — Без вооруженного пролетариата никому не обойтись. Против винтовок да пушек одного красного петуха мало.
Они плыли в полной почти темноте. Ветер нагнал тучи и закрыл луну. Только несколько звезд еще виднелось в разрывах и маяк мигал на далеком невидимом берегу.
— Ну-ка, набросьте. — Заметив, что Плиекшан съежился под стареньким пледом и поднял воротник пальто, Екаб вытащил из-под себя брезентовую, пропитанную олифой робу. — Все теплее будет.
— Благодарю, — борясь с зевотой, которая всегда одолевала его на холоду, сказал Плиекшан. Он едва удержал робу в руках. Тяжелый непокорный брезент с жестяным грохотом заполоскал на ветру.
Рыбак помог Плиекшану влезть в пахучий доспех и подоткнуть под себя полы. Стало как будто теплее. Вскоре он окончательно согрелся и даже начал понемногу подремывать.
Как глубоко прав Толстой, говоря, что все в человеке из детства. Первые детские впечатления помнятся до могилы, откликаются гудящей струной на боль и на улыбки. Это самое чистое в нас, это и есть мы сами, если только не изменим себе. Дайны матери, заунывные белорусские песни — вновь и вновь наполняют они сердце щемящей грустью. Вот вечный источник, к которому дано припадать и в радости, и в тоске. Грустной памятью будет окрашена радость, светло утешится печаль. Когда остановится время для человека, он, не старея уж больше, продолжает светиться улыбкой в любящих душах. «Где ты, Марчул?» Позовешь своих мертвых на помощь, и оживает милый с детства мотив. Это старый литовец-поэт день за днем все ту же тягучую песню. Крутит ручку мельнички, хрустит размалываемым зерном. О чем он поет? О тяжкой доле народа. И день за днем ты впиваешь в себя эту горечь, пока не становится она частью тебя самого. А ночью, когда светит луна сквозь жерди сеновала и белый туман наползает с лугов, ты слышишь, как поет старый белорус. Плач осеннего ветра — его нехитрая песня. О чем она? Все о том же, лишь на другом языке.
Наступит праздник, и два бобыля-латгальца принесут на хутор долгую балладу о несчастном графе Платере, который ради брата-революционера взошел во цвете лет на эшафот. И эта песня тоже останется с тобой. И непонятные грозно-влекущие слова «революционер», «эшафот» западут к тебе в душу, чтобы яростно вдруг расцвести, когда настанет пора. Ты плачешь, заливаешься слезами, жаль тебе молодого графа… Что-то взрастет потом из этих чистых слез, что-то вызреет из благородной жалости. Отуманит тебя своей вечной печалью тихий рекрут-еврей. Но о чем он, о чем? О далекой невесте? Падай, семя печали, в открытую жадную душу. Пусть вместит она боли земли.