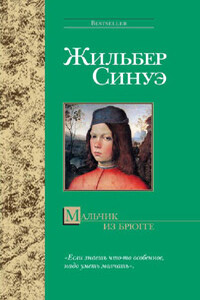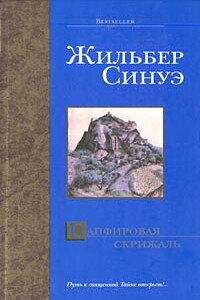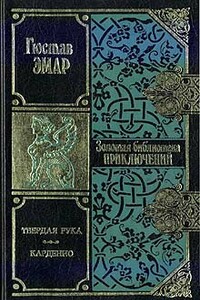— Ты можешь двигаться? Постарайся... Это единственная возможность спастись.
Раненый приоткрыл глаза. И с помощью рук принялся медленно выползать.
Это время, пока он выпрастывал из-под камня нижнюю часть своего тела, показалось Калликсту вечностью. Лишь когда человек окончательно высвободился, он уронил брус, и тот с глухим стуком врезался в землю.
— Как тебя зовут?
Таков был первый вопрос раненого, когда сознание вернулось к нему.
Но Калликст сначала кончил забинтовывать рану у него на ноге и только потом ответил:
— Калликст.
— Никогда этого не забуду, Калликст. А мое имя Зефирий.
— Странное дело, я тебя впервые вижу. При том, что, кажется, знаю почти всех заключенных.
— Ничего удивительного. Я сюда прибыл только позавчера ночью.
— Теперь тебе надо поспать. И помолиться, чтобы рана не загноилась.
Но когда он укрыл Зефирия тощеньким одеялом из галльской шерсти, тот опять принялся расспрашивать:
— Почему ты так рисковал своей жизнью?
Калликст отозвался не без иронии:
Кто знает? Может, мне скучно. А может, захотелось умереть за компанию с тобой.
— За какое преступление ты сюда попал? По-моему, у тебя мало общего с теми, кто нас окружает.
— К сожалению, ты ошибаешься. Я здесь за подлог и незаконное присвоение чужих средств. А ты? В чем ты провинился?
— Уличен в гнуснейшем из злодейств: я христианин.
Калликст помолчал в раздумье, потом заявил:
— В таком случае будь благословен. Ибо мы с тобой в известном смысле братья.
Склоны Целиева холма были усеяны жилищами знати, вокруг которых зеленели настоящие цветущие оазисы. При всей своей военной мощи римляне сохраняли, вероятно, в силу своего происхождения, тоску по деревенской жизни и глубокую привязанность к природе. Вот почему даже самые обездоленные плебеи украшали свои лачуги цветами в горшках, а богачи изощрялись, посредством искусства и фантазии создавая прелестные сельские островки в своих поместьях, даже если последние располагались в центре города.
Вилла Вектилиана была одним из таких изысканных жилищ. Коммод подарил ее Марсии. Туда-то и удалялась Амазонка всякий раз, едва представится возможность. Те из римлян, кто чувствовал свою близость к христианству, обосновывались где-нибудь поблизости, их присутствие как-то оживляло ее, придавая сил и отваги, необходимые для того, чтобы снова возвращаться на Палатинский холм, погружаться в трясину императорского дома.
В тот день, скрываясь от изнурительного послеполуденного зноя, она сидела в садовой беседке, увитой зеленью, ведя разговор с двумя собеседниками — первым был Эклектус, ее неизменный друг, вторым — Виктор, глава всего христианства, папа и одновременно епископ Римский. Этот последний передал ей новый список христиан, высланных на Сардинские рудники, всего тридцать человек, среди которых архидиакон Зефирий. Виктор уточнил:
— Зефирий мне особенно дорог. Великого рвения человек, да к тому же мой самый ценный соработник.
Молодая женщина смотрела на наместника Петра с обескураженным видом. Поскольку она не осмелилась возразить, Эклектус решил вмешаться:
— Ты отдаешь себе отчет, чего требуешь, Святой Отец? Это же невыполнимая задача.
— Невыполнимая?
— Во всяком случае, смертельно опасная.
Оба придворных принялись растолковывать Виктору, сколь значительные перемены произошли в умонастроении Коммода после той истории с Клеандром. С тех пор как мятежи стоили жизни его любимцу, император более чем когда-либо, чувствовал угрозу, нависшую над ним самим. Страх, да, может статься, и смутные угрызения пробудили в нем потребность прибегнуть к покровительству какого-либо божества-защитника.
— Разве существует покровитель надежнее Господа нашего Иисуса Христа? — с живостью перебил Святой Отец.
Марция вздохнула:
— Я не единожды, а сто раз говорила с ним о нашей вере. Но чем настойчивее я была, тем, похоже, слабее становилось мое влияние.
Традиции, равно как и неистовый темперамент побуждали императора поклоняться языческим божествам с жаром, граничившим с бредовыми наваждениями.
— Все шарлатаны Востока донимают его, соблазняют, изводят. Они все делают, чтобы настроить его против нашей религии, так как не сомневаются, что у них нет врага опаснее, чем благая весть Христова, — пояснил Эклектус.