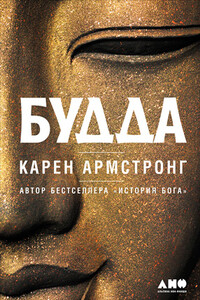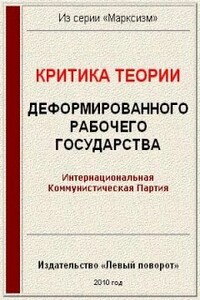. Распространенное убеждение в том, что представители других народов – не вполне люди, помогало мириться с массовыми убийствами, которые стали возможны благодаря новому вооружению. Наступала эпоха невообразимого насилия.
Индустриализация также породила национальное государство{1338}. Аграрные империи не располагали технологиями, которые позволили бы навязать всем жителям одну культуру. Еще в Средневековье границы государств не были четко очерчены, и принадлежность многих земель оставалась спорным вопросом{1339}. Однако в XIX в. Европу разделили на государства с четкими границами, каждое из которых имело центральную власть{1340}. Индустриализованное общество требовало общей грамотности, общего языка и единого контроля над человеческими ресурсами. Даже если подданные разговаривали на ином языке, чем их правитель, они отныне принадлежали к одной «нации», «воображаемому сообществу» людей, которых призывали ощущать глубокую взаимосвязь с другими людьми, о которых они ничего не знали{1341}.
Если религиозные аграрные общества зачастую преследовали «еретиков», то в секулярном национальном государстве выбор между ассимиляцией и исчезновением вставал перед «меньшинствами». В 1807 г. Джефферсон наставлял своего военного министра: индейцы – люди «отсталые» и их надо либо «уничтожить», либо вытеснить подальше, на другую сторону Миссисипи, «к лесным зверям»{1342}. В 1806 г. Наполеон сделал евреев полноправными гражданами Франции, но два года спустя в своих указах повелел им брать французские имена, ограничить свою веру частной жизнью и обеспечить, чтобы как минимум один из трех браков на семью был с неевреем{1343}. Эта насильственная интеграция считалась прогрессом! По мнению английского философа Джона Стюарта Милля (1806–1873), лучше бретонцу принять французское гражданство, «чем сохнуть на своих скалах полудиким остатком былых времен, закупорившись в маленьком мире, не участвуя в общем движении мира и не интересуясь им{1344}». Впрочем, английский историк лорд Эктон (1834–1902) считал понятие национальности неудачным. Он опасался, что «фиктивная» общая воля народа сокрушит «все естественные права и укоренившиеся свободы, чтобы оправдать себя»{1345}. Он понимал, что желание сохранить нацию может оправдать самую бесчеловечную политику. Хуже того:
Когда государство и нацию соотносят друг с другом, на практике это означает второсортность всех других национальностей… Соответственно, в зависимости от степени гуманности и цивилизованности той группы, которая претендует на все права, нижестоящие расы будут либо истреблены, либо обращены в рабство, либо поставлены в зависимое положение{1346}.
Задним числом можно сказать: как в воду глядел!
Новое национальное государство страдало от глубокого противоречия: государство (государственный аппарат) считалось секулярным, но нация (народ) вызывала квазирелигиозные эмоции{1347}. В 1807–1808 гг., когда Наполеон завоевывал Пруссию, немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте прочитал в Берлине несколько лекций, в которых позволил себе помечтать вслух о времени, когда 41 германское государство станет единым национальным государством. Он считал Отечество манифестацией божественного начала, средоточием духовной сущности народа, а значит, явлением вечным. Немцы должны быть готовы жертвовать жизнью за нацию, ибо лишь она дает людям желанное бессмертие: ведь нация существовала с начала времен и будет существовать после смерти отдельного человека{1348}. На заре Нового времени философы вроде Гоббса призывали к созданию сильного государства, которое способно обуздать насилие (по их мнению, возникавшее исключительно по вине «религии»). Между тем во Франции всех граждан мобилизовали во имя нации, а теперь Фихте призывал немцев – ради Отечества – дать бой французскому империализму. Государство было изобретено, чтобы сдерживать насилие. Однако теперь оно служило его источником.
Если считать, что «сакральное» – это то, за что человек готов сложить голову, нация действительно стала воплощением божественного и высшей ценностью. Поэтому национальная мифология поощряла сплоченность, солидарность и лояльность нации. Однако «заботы обо всех и каждом», столь важной для многих религиозных традиций, еще не появилось. Национальный миф не поощрял граждан распространять сострадание на другие страны, любить странников, делать добро врагам, желать счастья всем живым существам и ощущать боль всего мира. Да, такого рода эмпатия и раньше редко влияла на воинскую аристократию. Однако она как минимум оставалась альтернативой и постоянным вызовом. А сейчас, когда религию вытесняли в частную сферу, не оставалось «международного» этоса, который послужил бы противовесом растущему структурному и военному насилию, все более подавлявшему слабые народы. Секулярный национализм воспринимал чужеземцев в качестве законного объекта эксплуатации и массового убийства, особенно если они принадлежали к иной этнической группе.